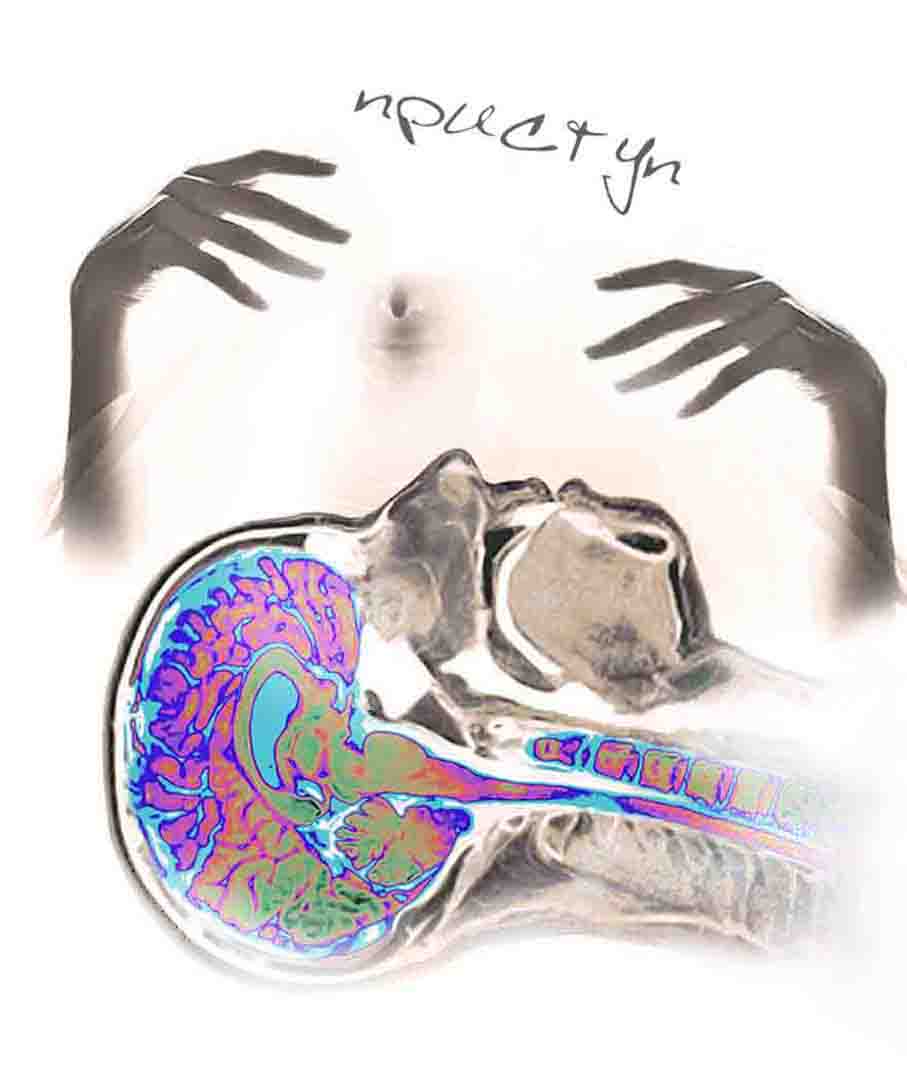ПРИСТУП
Остановился дед Авксентьев на полушаге, прислушался. Нет, не показалось давеча, сердце и в самом деле ныло, словно неуютно ему было в груди. Будто тосковало оно невысказанной тоской и болью.
Поноет, поскулит и отпустит.
- Не дай-то, бог,- вздохнул дед и продолжил работу.
Он любил, когда жена велела заняться делом.
То есть натаскать воды из колодца полную кадушку и бак, что в печь вмонтирован для нагрева, наполнить, растопить печь, чтоб загудела тягою, чтоб искры от расщелкивающихся сухих полешков полетели в трубу и горячий здоровий дух изошел в деревянную ладную баньку, прокалил каменницу, прожарил воздух. Это ж сколько надо ведер наполнить, поднять, коромыслом подцепить и в конец огорода снести? Дело нешуточное, тут уж некогда прислушиваться к сердечному нытью, тут только поспевай ноги передвигать. Да за огнем следи, да вьюшку не забудь задвинуть, да дверь придержи, чтобы плотненько прилегла.
Любил дед Степан баню, как всякий русский человек, до того любил, что дух от самого предвкушения ее захватывало. И млел он радостно на полке, нахлестывая себя березовым тугим веничком неистово. И охал, и кряхтел, и с восторгом находил себя как бы заново рожденным, когда сидел в чистом предбаннике, травами пахнущем - богульником болотным да крушиною, - и когда, утеревшись чистым полотенцем, обряжался в свежее белье, когда, распахнув пошире дверь, вдыхал чистый вечерний воздух.
Но на этот раз и в бане сердце напомнило о себе. И пар уже был не так горяч, и веник, казалось, сделался холодным, неласковым. Порою случалось такое с дедом, сердце его наполнялось вдруг предчувствием, словно хотело предупредить о чем-то. И тогда уж лучше никому не трогать деда, не мешать, тогда уж лучше побыть ему одному.
Небольшая деревня со спокойным именем Положиха, стоит как водится на берегу речки. К крутому глинистому бережку подпирает ее темный смешанный лес, в котором у каждого из местных жителей есть свои заветные тропки, ляги, уболотины - ягод и грибов тут бывает по сезонам изобильно, всем хватает. А дальше за лесом, если прошагать верст тридцать, будет еще деревушка, ту уже кличут Куквою.
Раздольны эти места, широки, радостны - потому что с каждого пригорка открывается такая синева, такая новь, - дух захватывает.
Кто, конечно, понимает. И болота тутошние, и гари, и подмытые вечным течением рек обрывистые берега, и бессчетные озера большие и малые, окаймленные березняками либо же ольховниками - все складывается в задушевную, как и здешние напевы, картину уюта и простоты.
Может быть у кого-то есть и свои взгляд на эти места, как на обычные, невзрачные, но вот Степану Спиридоновичу Авксентьеву, заканчивающему восьмой десяток лет жизненной дороги, никто еще не доказал этого. Да и не мог доказать, потому что дед Степан сам кого угодно убедит, любого обратит в свою веру.
А любил он отчий край беззаветно, тихо по-сыновнему без громких фраз, но всем сердцем. До того любил безоглядно, что порою сами собой от полноты чувств наворачивались у него на глаза слезы. Когда, к примеру, в летний вечер настоянный на запахе самовара и цветущего луга вдруг озарит все видимое пространство теплым малиновым светом заходящее солнце, да ко времени из лесу подаст голос кукушка, развешивая свои стеклянные бусы от дерева к дереву, да в реке тяжело плеснет рыбина, да замычит в хлевушке корова. Ах, как сладко защемит тогда в самой середке сердца, запоет там серебряная струна, всколыхнет нечто сокровенное нутряное, чему и названия-то нет.
За все за это сложил голову отец его, брат погиб в последнюю войну, и сам Степан Спиридонович в боях немилосердных защищал эту землю, был много раз ранен, искалечен, чудом остался жив. Но вернулся сюда, в свою Положиху, милее которой и не знал он ничего на свете.
Этим вечером, как обычно после баньки, посидев на скамеечке, проводив солнышко, посумерничав недолго, он собрался спать. Жена его Анна Ивановна (или по-домашнему Нюра), намаявшись за день в огородике да при скотине, вытянула отяжелевшие ноги, уснула уж. Вздохнул Авксентьев Степан Спиридонович благостно:
- Ну, слава богу, еще день прожит, - разделся и лег.
Но не шел к нему сегодня сон. Беспокойно ворочался старик, вздыхал, вставал два раза кваску попить, выходил даже на крылечко, смотрел на звезды. Они тускнели, растворялись в светлеющем небе. С реки длинными призрачными космами выползал туман, серебрясь в неясном звездном свете, холодя и обволакивая.
Оделся сызнова Степан Спиридонович, зная уж наверняка, что не спать ему эту ночь, поставил самовар, бросил в топку приготовленную лучину, поджег - загудел, засвистел хорошей тягой старый тульский чаегрев.
Скоро через отдушину в крышке, шипя и горячась, вырвался пар. Положив щепоть смешанных трав в большой фарфоровый чайник с отбитым носиком, дед Степан заварил свое питье, накрыл чайник полотенцем, стал выжидать, когда натянет кипяток травяные соки, когда распарится каждая былиночка, отдаст свой аромат, свой дух, свою горчинку или сладость - как ей положено. Авксентьев сам собирал и сушил травы, знал в них толк.
Но только бессонная эта ночь совсем другого, не травяного настоя, требовала от деда Степана: неясное волнение, родившееся в сердце под вечер, разрослось, охватило крепкими корешками все существо его, во весь голос заявляя о себе. Случалось со Степаном Спиридоновичем иногда такое, что не мог он заснуть, маялся, подступала к сердцу его тревога, вынимала постепенно душу и звала в дорогу, указывая путь туда, где кто-то нуждался в помощи, страдал и не видел избавления, не верил в него.
«Господи!» - прошептал дед Степан, вглядываясь широко раскрытыми глазами в темную заоконную даль, и различая во тьме знакомые черты:
- Доктор! Боль-то какая. Спаси и сохрани! Потерпи, милый, я счас...
Сноровисто и привычно Авксентьев собирал в видавший виды чемодан нехитрые пожитки свои. Укладывал полотняные мешочки с травами, баночки с вареньями, грибки-рыжики. Уложившись, проверив все, сел к столу чай пить.
Проснулась Анна Ивановна, глянула на мужа, по виду его сразу поняла, что случилось.
- Опять? - только и спросила. - Приступ?
- Еду, - сказал дед Степан, прихлебывая чай.- Болит, сил нет терпеть. Зовет он...
- Теперь-то кто?
- Доктор. Отец мой.
- О, господи,- вздохнула Нюра протяжно и перекрестила мужа,- избави и помилуй! На ночь-то глядя...
- Небось обойдется, доберусь в срок.
- Коробку возьми, горе мое.
- Прости, Нюра, мочи нет терпеть. Поеду, - проговорил Степан Спиридонович отрешенно, глянул рассеянно на жену и встал.
Солнце склонилось к Западу, длинные вереницы густых по-осеннему облаков были освещены снизу и казались желтовато-синими, нарисованными. Отражения облаков причудливо дробились в чуть волнующейся поверхности небольшого озерца. И кружилась, надо полагать, голова у подросшего птенца утки, с упругим свистом режущего вечерний воздух крыльями, когда он, взлетая в небо, на небо же отраженное озером должен был и садиться.
Воздух чист, напоен запахами луга, зарослей ивы, шелестом огромных камышей и неумолчными стрекотами, гулами, звонами мелкой живности приозерной.
Всего в нескольких километрах отсюда за плотной стеной марева располагается огромный город. Лучи неяркого осеннего солнца, кажется, утонули в густой атмосфере над многокилометровым скоплением домов, фабрик, тюрем, свалок, стадионов, вокзалов, электростанций, воинских частей, И облака над городом другие, особенные, вернее, это одно бесконечное тусклое облако, пелена изжелта-серого цвета, в которой только по чуть более насыщенной стороне можно угадать наличие заходящего солнца и направление его движения.
Многочисленные узлы улиц и площадей, переулков и проспектов привычно погружались в сумерки, отражая миллионами стекол угасающий свет. Тенистые коридоры городских магистралей впитывали сумрак, наполнялись густым серо-синим воздухом. Кое-где в центре разноцветными украшениями зажигались неоновые светильники, разбавляя мутный вечерний воздух смутными островками пятен.
Возведенный на месте соединения бульваров, в пышном обрамлении старых лип, плыл по сумеркам огромный старый дом, как многоэтажный корабль в море города. Массивный, основательный, он замыкал собой двор и был целым районом, кварталом, островом с четырьмя арками - проливами, соединяющими внутреннее его пространство с внешним миром. Дом, где тысячи жителей, которые, даже прожив всю жизнь под одной крышей, могут не знать о существовании друг друга. Окна, обращенные во двор, кажутся подслеповатыми, грустными. Всю свою жизнь они видят одно и то же. Зато окна внешних сторон дома сверкают празднично. Тут и цветов побольше, и занавеси получше. Вот задернули плотные бордовые шторы в третьем этаже - мешает раздражающе-яркое сияние неонового рекламного призыва "ВПЕРЕД!" Куда вперед, остается неизвестным, так как продолжение слогана, предназначенного для проезжающих бульваром, скрывается от жителей дома углом соседнего здания.
В окне первого этажа, который даже не первый, а скорее, полуподвальный, так как окно выходит в специально созданную нишу в тротуаре, огороженную решеткой, можно различить пожилую женщину, сидящую в продавленном кресле напротив телевизора. Телевизионного приемника самого не видно, он стоит как раз в простенке, но по мерцающему голубоватому оттенку в темном помещении нетрудно догадаться, что это старый черно-белый аппарат, помнящий тетю Валю молодой. Почти во всех этажах уже светятся окна кухонь - тысячи домохозяек, вернувшись с работы, отстояв свое в очередях магазинов, готовят еду для приведенных из детсадов, вернувшихся из школ или с работы домочадцев, надо кормить семью, надо что-то приготовить впрок. Для женщины кухня часто становится основным местом времяпрепровождения, когда нет занятия более важного и ответственного.
Вот среди целого ряда темных окон едва заметная - одна единственная - горит свеча и в ее хрупком свете чуть различима неподвижная фигура старика. Сед и худ, сидит он у стены, сложив бледные руки на коленях. Зеркало над ним завешано черной тканью.
В окне третьего этажа сквозь кулисы пеленок видна юная мама, грудью кормящая младенца. Она улыбается, она счастлива. Она сама не верит, что это дитя - ее собственное. Рядом сидит молодая мама этой мамы, она спешит куда-то, пудрит лицо и спешно дает советы дочери.
А вот распахнутое окно. Подоконник усыпан табачным пеплом, штора хлопает, словно парус древнего судна, где-то в глубине комнаты спит на диване косматый человек с искусанными губами, он ворочается и вскрикивает во сне, письменный стол рядом завален исписанными листами. Дом, как корабль, плывет сквозь вечер, светя иллюминаторами окон. И за каждым - своя судьба, своя жизнь.
Ярко светит люстра, переливаясь всеми цветами радуги в дорогих хрустальных висюльках. Форточки в гостиной открыты, но сквозь них в квартиру не проникают уличные шумы и запахи, потому что квартира благоухает таким плотным и густым вкусным духом готовящегося застолья, что кажется, его можно пощупать. Смесь цветочных ароматов, - букеты всюду, и на столах, и на подоконниках, и на трюмо, съедобных деликатесов, заморских духов, дезодорантов. В центре просторной комнаты на втором этаже - под тяжелой люстрой - сервируется массивный овальный стол. Торжественность обстановке придают не только многочисленные букеты, но и тихо звучащая музыка - словно увертюра к званому действу. Вокруг стола расставлены стулья согласно сервированным на белоснежной скатерти приборам. Где-то в глубине квартиры звонит телефон, перекрывающий своим требовательным тембром интимную музыку. Скоро слышится мужской голос:
- Людочка, ты слышишь, звонят. Возьми трубку, у меня руки.
Невидимая Людмила отвечает откуда-то:
- Я голая.
- Но по телефону этого не видно,- шутит тот же мужской голос,- тебе никого не удастся напугать.
К телефонному аппарату решительно подходит пожилая изящная женщина со вкусом одетая, в дорогих украшениях, в нарядном переднике. Она вытирает полотенцем руки, прежде, чем снять трубку.
- Да, я слушаю вас, - хорошо поставленным голосом произносит она.- Алло. Кто? Кто? Плохо слышно. Кто вы сказали? - Тут голос женщины меняется на умильно-ласковый, она узнала звонящего. - Ой, солнышко, это ты, как я рада! Здравствуй. А я тебя сразу и не узнала. Да, теперь слышу. Конечно, конечно. Да, все отлично, Ну что ты? Перестань, пожалуйста. А я и подумала, что это ты - звонок был междугородний. Да. Да. Спасибо тебе, спасибо, родная. Как приятно, что ты помнишь. Да, кажется будто вчера. Мы вот тоже только что с Алешей об этом говорили. Да, но что делать. Подумать только... Нет, он еще на службе, но скоро должен быть, ждем. Обязательно передам. Он будет очень рад. Да, и мы часто тебя вспоминаем... Ты же знаешь, сколько у него работы... А что, давай, мы тебе всегда рады - на самолет и к нам... Да... Хорошо, Зиночка, милая, спасибо тебе. И тебе всех благ, всего самого наилучшего, Гришу поцелуй. До свидания. Да.
За время разговора на хорошо ухоженном лице женщины можно было прочесть целую гамму оттенков чувств - и радость, и нетерпение, и раздражение многословием собеседницы, необязательностью многих фраз и сосредоточенность на чем-то другом. Причем по голосу практически ничего этого заменить было нельзя, но жесты, поза, мимика приоткрывали отношение невысказанное - не этого, совсем не этого звонка ждала хозяйка квартиры.
Когда она положила трубку на место, в комнату вошел ее старший сын Алексей с большим блюдом в руках.
- Мамуля, это куда?
- Вот сюда, - энергично подошла к столу Елена Петровна и указала место,- дай я сама. И не трогай ничего руками.
- Но я есть хочу, - потянулся рукой к блюду Алексей и тут же заработал шлепок по руке.
- Все хотят, - строго сказала Елена Петровна. - Терпи. Тем вкуснее будет. Вот скоро папа приедет, сядем. - Она в очередной раз царственно окинула взором широкий стол, оценивая сервировку, что-то отмечая, что-то поправляя. Алексею удалось все-таки стащить ломтик буженины.
- А кто звонил-то? - скрывая рецидив, спросил он и затолкал мясо в рот, стал жевать.
- Ах, да, звонила тетя Нина, - стала объяснять Елена Петровна без всякого, впрочем, энтузиазма, - как всегда щебетала что-то о том, что мы ее забываем. Поздравляла, одним словом. Помнит, слава богу.
- Да, - проговорил Алексей и облизнулся.
- Что значит твое "да"?
- Ничего.
- Нет, ну что-то же ты имел в виду?
- Ровным счетом ничего...
- А сколько в свое время папа для них сделал, боже ты мой...
- Да уж... Да...
Алексей прожевал очередной кусок, потер энергично ладони и пританцовывая подошел к матери.
- Ты это чего, Алеша? - изумленно отступила Елена Петровна.
- Ну, мать, ты у нас просто красавица, - восторженно проговорил сын и обнял ее. - Дай я тебя…
- Сумасшедший! Отпусти, платье помнешь! Балда!
Алексею тридцать пять лет, он среднего роста, в очках, довольно упитан и пролысины уже глубоко открывают его круглый череп под мягкими вьющимися волосами. Рубашка на нем белая, галстук вишневый, рукава закатаны, цветастый передник дополняет гардероб. Ему нравится домашняя суета, ощущение праздника, блеск люстры, сияние драгоценностей не Елене Петровне.
- Слушаюсь и повинуюсь, - картинно склоняется он перед матерью, Та отмахивается от него изящными ладошками.
- Ты отстанешь сегодня от меня? И без того голова кругом идет, столько еще не сделано...
- Все в лучшем виде, мам, не суетись.- Да, если б еще и я не суетилась, что бы в этом доме делалось... - Ну и как там у них? - спрашивает Алексей, подразумевая тетю Нину, а сам, пользуясь переменой темы, как бы невзначай, снова тянется к блюду с мясом.
- У них все замечательно, - отвечает Елена Петровна.- Голос у Ниночки, насколько я могла расслышать, был бодрый. Слышимость, кстати, удовлетворительная. Не трогай, говорю, ничего! Лешка! Иди, лучше рыбу порежь!
- Намек понял. Бу-сде!
Он поворачивается и выходит из комнаты. Елена Петровна идет за ним следом, погоняя полотенцем. В другой двери, ведущей в гостиную, появляется жена Алексея, Людмила - это ее голос звучал недавно из ванной комнаты.
Людмила невысока, сероглаза. По случаю торжества ее черные волосы подняты вверх замысловатой волной прически, макияж праздничный типа "боевая раскраска". Платье ядовито-зеленого цвета очень открытое. Людмила никак не может справиться с застежкой на спине.
Придерживая левой рукой расходящееся платье, Людмила подходит к вновь зазвонившему телефону:
- Аллёо, - томно произносит она. - Да, здравствуйте. Нет, это не больница, вы не туда попали. Да, конечно.
Изящно опустив трубку на аппарат, Людмила отходит, но тут же звонок раздается снова. Дернув обнаженным плечиком, оттопырив пальчик с накрашенным ноготком, Людмила отвечает сухо:
- Да, вас слушают. Что? Нет, это не Елена Петровна. А она занята.
Что-нибудь передать? Но я же вам сказала... Странно. Что за человек!
Людмила кладет трубку на столик, приоткрывает дверь в коридор и кричит:
- Мама, вас к телефону!
Елена Петровна появляется стремительно, вытирая руки, бросает на ходу:
- Кто?
Людмила пожимает плечами и кривит губки.br> - Понятия не имею, какая то фифочка.
Елена Петровна отмечает новый наряд невестки.
- Опять! Ох, Людмила, Людмила...
- А что такое, не нравится? - вызывающе выставляет свою голую спину Людмила. Но Елена Петровна уже не слышит ее, она говорит по телефону:
- Да, я слушаю вас. Кто? Ах, так. Да, да говорите. А я и не волнуюсь, с чего вы взяли? Позвольте, а что собственно случилось? Почему вы таким тоном... Что? - Елена Петровна враз вдруг сникла и села на стул. Другим голосом проговорила. - Повторите, пожалуйста, я плохо расслышала... Когда? Как? Где?.. Господи, как же так... Машина? Какая машина? Ах, да, конечно, пусть приезжает, конечно, да, да...
Елена Петровна опускает трубку на колени и смотрит на нее с испугом. Как птица или зверек тоненько пищит аппарат короткими гудками.
С очередным блюдом, румяный, напевая что-то в роли бравого официанта, входит Алексей. Сразу же замечает изменившееся лицо матери:
- Что с тобой?
В это время гаснет люстра и комната погружается в темноту.
-Этого еще не хватало! - выдыхает Алексей напряженно и пристраивает наощупь свою ношу на край стола, звенит приборами,- Я сейчас...
Тут же он возвращается с зажженной свечой и ставит ее на столик.
- Леша, - тихо произносит Елена Петровна, голос ее дрожит.
- Да, мамочка.
- Леша, папа...
Голос Елены Петровны срывается на плач, телефонная трубка выпадает из рук. Алексей машинально ловит ее и водружает на место.
- Не может быть, - шепчет он и садится.
Ему вдруг делается ужасно зябко, и голова начинает кружиться.
Это, как в детстве на качелях, (он ужасно не любил качелей) когда на мгновенье задержавшись в самой верхней точке, ты стремительно падаешь, не чувствуя своего веса, вниз, падаешь, и нет у тебя опоры, нет сил остановить это паденье и нет рядом никого, кто мог бы спасти тебя от этого длящегося ужаса.
Выбили опору из-под ног, ударили под дых.
Ах, как больно и холодно стало Алексею.
Он не сразу услышал, что к нему обращается вошедшая в гостиную жена. Люда стояла на пороге комнаты с хрустальным кувшином в руках.
- Это что еще за маскарад, Алексей? - спрашивает она. - Почему выключили свет? А?
- Люда, папа умер, - проговорил он в ответ ледяным голосом.
- Бог с тобой, Леша, что ты такое говоришь, - вскочила со своего стула Елена Петровна, - Как можно! Умер?.. Никто не умер.
- Но ты же сама только что сказала...
- Он в больнице, увезли прямо из кабинета, - разъяснила Елена Петровна.
Алексей вздохнул и обеими ладонями стал растирать свою грудь. Пот выступил на его высоком лбу.
- Приступ? - спросил он и закашлялся.
- Кажется, да, - ответила Елена Петровна.
- Фу, господи ты, боже мой, как я испугался... Похолодел весь,- встал Алексей и обнял мать.- Ох, мамочка, когда ты сказала, про папу, у меня сердце куда-то вниз так и ухнуло. В ледовитый океан. Значит просто приступ, слава тебе, господи...
- Что мне с этим делать? - спросила вдруг резко Людмила, показала кувшин и добавила, - теперь, когда счастливо выяснилось, что никто не умер.
- Люда! - одернул ее муж.
- Как вы можете, Людочка, об этом в такую минуту.
- А что тут такого? - фыркнула невестка. - Я не понимаю.
- Ладно, уймись, - строго сказал Алексей и тут же снова повернулся к матери, - мама, да не бегай ты, сядь и расскажи толком, кто звонил, что сказал, как...
- С работы звонили, - села послушно Елена Петровна. - Новый секретарь, Таня или Наташа, я никак не запомню.
- Ну и?
- Выслали за мной машину. Сейчас будет. Вот, надо ехать туда. Поеду. Все сама увижу... - Елена Петровна снова поднялась, руки ее беспомощно стали шарить по фартуку. - Может быть надо что-то взять? Как ты думаешь, Лёшенька? Или Николаеву позвонить?
- Думаю, вы с ним увидитесь. Наверняка он-то уж там. А во сколько увезли?
- Я не поняла.
- Ну, как же так, мама!
- Она не сказала, а спросить я, ты сам понимаешь, в каком я состоянии была, когда услышала, не догадалась...
- Может быть еще днем?
- Вряд ли. Позвонили бы сразу.
- Верно. Видимо она тут же, как отправила, и стала вызванивать,- рассуждал Алексей напористо, словно освобождаясь от давящей тяжести.
Он тоже не мог успокоиться, расхаживал по комнате, сцеплял и расцеплял руки. Пламя свечи колебалось, рисуя на стенах причудливые тени,- Ну что она еще говорила-то, эта Таня-Наташа, как было? Ничего серьезного? - снова остановился возле матери Алексей.- Может быть, это так же, как в тот раз?
- Тогда он отлежался и встал. Господи, как тут жарко! Дайте же мне попить, пожалуйста... А почему темно? - только теперь заметила Елена Петровна.
В это время послышалось мелодичное теленьканье в коридоре - кто-то звонил в дверь.
- Это машина! - всполошилась Елена Петровна. - А я не готова. Иди, открой. Я сейчас.
- Да не волнуйся ты так, - воскликнул Алексей, - может быть мне с тобой поехать? А?
Елена Петровна скрылась в своей комнате.
Из коридора донеслось:" Я открою" - это Людмила оказалась ближе всех к двери.
Алексей подошел к столу, наклонился, высмотрел графин, налил в фужер из него и одним махом выпил. Занюхал первым, что подвернулось под руку.
Из прихожей послышались удалые голоса входящих гостей. По высоким нотам Алексей сразу узнал Моргачевых, тестя и тещу. Они любили декламировать хором всевозможные куплеты. Вот и теперь начали было: "Дорогие юбиляры, разрешите вас обнять и от всего большого сердца..." Но Людмила зашипела на них и замахала руками, останавливая:
- Предки, вы что, очумели? Тс-с-с!
- Что такое, дочь? - поднял брови Моргачев. - Мы же...
- Тихо, сказала! У нас тут такое, а вы - песни петь...
Людмила подтолкнула родителей к кухне и прикрыла за собой дверь.
Алексей, прислонившись к косяку, из темной гостиной наблюдал за всей этой сутолокой. Он уж хотел было вмешаться, но Людмила и сама справилась достаточно оперативно. Голоса мгновенно стихли.
- Ну, вот я и готова, - вышла в прихожую Елена Петровна.
На ней был строгий костюм, темная косынка на шее, и никаких украшений, рука привычно сжимала лакированную сумочку.
- Мам, может я все-таки с тобой? - шагнул к ней Алексей.
- Я скоро вернусь, думаю, что скоро,- проговорила Елена Петровна, открывая дверь. - Чуяло мое сердце, - остановилась она, и в глазах ее блеснули слезы. Алексей вышел вместе с ней и захлопнул дверь.
Свеча осталась гореть в гостиной, слышно было, как потрескивает фитиль. Полумрак съел атмосферу приготовления к торжеству, в квартире сделалось пусто и грустно. И даже букеты в хрустальных вазах стушевались, померкли. При живом свете маленького язычка пламени вся обстановка виделась иной, воспринималась иначе - как незнакомая.
Мы уже так привыкли к яркому электрическому свету, что при свече нам кажется темно, и уже редко у кого возникает наивное удивление - как же это люди в прошлых столетиях жили, праздновали, хозяйничали только при свечах. Нынче живой свет остался лишь кратковременным украшением или изыском. Редко когда кто-то прибегает к нему в быту.
Моргачев вышел из кухни, заглянул в гостиную, остановился.
- А что, очень даже уютненько, эдак вот со свечечкой,- проговорил он тоном гурмана, обращаясь к входящим следом за ним жене и дочери.
- Да, свечи, это хорошо, - подтвердила Моргачева.
Когда из коридора послышался звонок, все посмотрели на дверь и лица Моргачевых, как по команде, приобрели траурное выражение.
Людмила открыла дверь и удивленно встретила Алексея:
- Ты это чего?
- Маму проводил, - оказал тот и обхватил себя руками, проходя мимо Моргачевых.
- В такой день, - вздохнул тесть.
- Да, - закивала часто теща.
Алексей, не останавливаясь, направился к столу. - Что-то меня знобит, - сказал Алексей, наливая из графина в рюмку.
- Тут зазнобит, - подхватил Моргачев, подходя сзади и приобнимая зятя за плечи. - Эпоха стрессов до добра не доводит. В нашем возрасте и на таком посту, это знаете ли...
- А может быть ты простыл, Лешенька, - подкатилась и Моргачева к столу. - Сейчас, я слышала, такой коварный грипп ходит...
- Да, грипп в нашем возрасте, это не шутка, - печально заметил Моргачев, принимая из рук Алексея рюмку. - Что это?
- Это, чтоб не болеть, - сказал Алексей и выпил одним махом.
- Да, болеть, не дай бог, - засуетилась Моргачева. - Вот у нас на работе был случай в прошлом году, ужас просто - молодой сравнительно мужчина пришел, закрылся в кабинете и умер, А у него двое детей, представляете? Правда, не грипп - а сердце, но все равно, вот как бывает.
- За скорейшее и полное выздоровление нашего уважаемого, - начал было важно произносить Моргачев, высоко подняв руку с рюмкой, но закончить ему не удалось. В дверь опять звонили.
- Может быть мама что-то забыла. - подхватился Алексей и побежал к двери.
- Лучше жить здоровым, чем помирать больным, - высказался тихонько Моргачев. Kивнул сам себе и выпил. Моргачева рюмочку свою отставила, приблизилась к двери заинтересованно.
В дверь входил высокий пышноволосый молодой человек в светлых брюках, кожаном пиджаке с корзиной цветов на вытянутых руках.
Это был Леонид, брат Алексея. Моложе десятью годами, выше, шире в плечах, свободнее в движениях. За ним следом входил его спутник, лысый, бородатый, в джинсовой куртке и очках, прижимая руками к груди несколько бутылок шампанского.
- Привет честной компании, - возвестил свой приход Леонид. - Желаю обнять милых сердцу родителей! Имею полное право!
- Папа в больнице, мама поехала к нему, только что я проводил ее, - сразу же сообщил ему Алексей.
- Стоп, какая больница? - остановился Леонид. - Ты о чем?
- Позвонили с работы, сообщили, наверное, приступ.
- Ни фига себе, подарочек, - присвистнул Леонид и опустил цветы на пол. - Вот так дела... Блин, это да...
- Именно, - сказал Алексей и неодобрительно покосился на спутника брата.
Тот стоял у двери и с интересом разглядывал всех присутствующих.
- Чего будем делать? - повернулся к нему Леонид.
- Я думаю, для начала следовало бы цветы поставить куда следует, - низким приятным голосом проговорил бородатый, и качнул своей ношей. - И вот это.
- Да, та прав, - согласился Леонид, поднимая корзину. - Эй, кума, найди им место, - протянул он цветы Людмиле.
- Сколько раз я тебе повторяла, я тебе не кума, - фыркнула Людмила, корзину все-таки принимая.
- Ну, золовка, сноха, какая разница... Суть не в названии, верно?
Леонид освободил своего товарища от бутылок и направился в кухню.
- Холодильник, надеюсь, не станет возражать?
Моргачевы переглянулись, Алексей подождал какое-то время, затем закрыл дверь и пошел за братом. Леонид уже возвращался, и они столкнулись в дверях.
- Кстати, а это Лохвицкий Юра, - представил он бородатого, - мой друг. Гений, между прочим. Да. - Он приобнял Лохвицкого за плечи и повел его в гостиную, рукою при этом словно экскурсовод, показывал на стоящих Моргачевых. - Вот, а это, Юра, как ты, наверное, догадался наша семья, фэмели, семейка туземных Адамсов. Без головы, правда, и без Елены свет Петровны, матушки, иначе говоря, нашей, которые отсутствуют по уважительной причине, состоянием здоровья. Да, Моргачевы, родственники со стороны жены брата. Вот как обстоят дела.
- Лёнечка, вы такой шутник, - улыбнулась натянуто Моргачева.
- Это верно, - подтвердил Леонид и остановился на пороге гостиной, оценивая обстановку. - А почему такой кромешный мрак? - он потянулся к выключателю.
- А что, очень романтично при свечах, - сказал протяжно Лохвицкий.
- При свече.
- Свеча горела на столе, свеча горела...
Несколько раз безрезультатно щелкнув клавишей выключателя, Леонид сделал вывод:
- Тем более что... - он выразительно развел руки в стороны, - Другого и быть не может.
Людмила вернулась без корзины, остановилась возле матери, встретилась с нею взглядом.
- Что будем делать? – прошептала та.
- Надо было сначала позвонить, прежде чем идти-то, - прошептала в ответ дочь и передернула голыми плечами.
- Но, Людочка, чего ж звонить-то? - недоуменно воскликнула Моргачева. - Ты молчишь, значит все идет нормально, вот мы и собрались, подарок приготовили...
- Кто ж мог подумать, что в такой день и вдруг случится такое, - вставил Моргачев, складывая руки у себя на животе и склоняя голову.
- А может быть, сядем на кухне? - весело предложил Леонид. - Праздник ведь не отменяется, верно? Как, сватья?
- Как ты можешь паясничать, когда там, - резко бросил Алексей, показывая кивком на дверь и подразумевая случившееся.
- Ах-ах-ах. Мы-то тут - возразил Леонид.
- Вот именно!
- И я с утра ничего не ел. Кушать очень хочется.
- Потерпишь!
- Мальчики, не надо ссориться, - попыталась успокоить братьев Моргачева. - Может быть, было бы гуманно действительно пока перекусить мальчикам...
- Мама, - тут же одернула ее Людмила.
- А что тут такого? - просто спросила она. - Не понимаю.
- Охо-хо-хо, - вздохнул Моргачев.
И повисла в доме пауза.
Алексей ходил по коридору взад и вперед. Людмила с родителями скрылась в комнате. Леонид, взглянув на своего товарища, построил разочарованную гримасу - мол, вот какая незадача, рассчитывали на одно, а получаем совсем другое.
Впрочем, Лохвицкий никак на это не прореагировал, он стоял, держась руками за спинку стула, и с интересом наблюдал за происходящими со свечой изменениями, за тем, как стекал, оплавляясь, стеарин. Черные его глазки посверкивали при этом из-под стекол очков. Алексей, устав ходить, сел и обхватил голову руками. Иногда он начинал качать ею и стонать.
- Ах, как все нелепо, как нелепо, - причитал он чуть слышно. - Господи, как глупо... Не дай бог, если... Господи, и именно теперь. Ах, как глупо, как глупо... Ну, зачем?..
Оглушительно резко в притихшей квартире зазвонил телефон.
Алексей вздрогнул и вскочил.
Тут же появились и Моргачевы. Все внимательно смотрели на трубку, на руку Алексея, когда он снимал ее, на его движущиеся губы, произносящие:
- Да, слушаю вас.
Голос Алексея звучал сдавленно.
- Кто? Ах, это вы, Владимир Андреевич, здравствуйте. Нет, это Алексей, Да, да, у меня все по-старому, спасибо. Нет, папы пока нет. Ну что вы, что вы... Да, обязательно. Конечно. Всего доброго, Владимир Андреевич.
Он положил трубку на место и объяснил:
- Это Ермолаев. Видно, поздравить хотел.
- Помнит даты, - усмехнулся Леонид. - Надо же, памятливый какой.
- Помнит, - согласился Алексей.
- Записывает, - ввернула Людмила. - На то он и заместитель.
- Бывший, - уточнил Леонид.
- Да, бывший, - вновь отрешенно повторил за братом Алексей и спросил, ни к кому конкретно не обращаясь - Он, надо понимать, еще не знает? - посмотрел при этом на Людмилу.
- Узнает, - сказала жена. - Не исключено, что для проверки он и звонил.
- С него станется, - хмыкнул Леонид.
- Ах, черт возьми, черт возьми, как все не вовремя, как не вовремя! - обхватил себя руками Алексей.
Тут посчитала необходимым вступить и Моргачева.
- И чего людям надо? Звонят-названивают себе бесцеремонно, когда тут такое горе. Никакого стыда нет у людей. Прямо так и хочется…
- Мама, - привычно одернула Людмила.
- Ну что, мама? Разве не так, - повернулась к ней Моргачева,- я бы индивидуально и конкретно никогда не стала звонить в такую минуту, тем более что еще пока ничего и не известно.
Моргачев по-отечески похлопал Алексея по плечу, успокаивая, сказал мягко:
- Не стоит, Лёшенька, так расстраиваться, поверь не стоит. Все, вот увидишь, будет хорошо, все обойдется. Уверен, что прямой угрозы, то есть непосредственной опасности нет. Ведь папа последнее время хорошо себя чувствовал, ни на что не жаловался, так ведь?
- А он у нас вообще никогда ни на что не жаловался. Он у нас из тех, кто думает сначала о родине, а потом уж о себе и обо всех остальных, - высказался Леонид, явно чувствующий себя неловко и от этого нервничающий.
- Прекрати юродствовать, - устало попросил брата Алексей.
- Наоборот, я горжусь.
- Все равно прекрати. И без тебя и без твоей гордости тошно.
- Мальчики, не надо, - без всякого энтузиазма проговорила Моргачева, лишь бы что-то сказать.- Думать сейчас надо о положительном. В хорошем смысле этого слова.
- Да, жизнь сложная штука, - философски заметил Моргачев. - Тут уж жалуйся, не жалуйся, а как прижмет...
Его никто не поддержал, но никто не стал и опровергать его мнения.
А потому, обведя присутствующих взглядом, Моргачев посчитал себя вправе продолжить рассуждение:
- Вот Ермолаев этот. Взять хотя бы, собственно говоря, персонально его. Был совсем недавно при деле, был в курсе всех событий, мог влиять на них хотя бы косвенно. Но имел ко всему самое, что называется, тесное соприкосновение. А теперь он бывший. Он же не намного и старше... А каково ему теперь? Одна радость - вот так вот при случае позвонить, напомнить о себе... Да...
- А при чем тут Ермолаев? - поинтересовалась слушавшая внимательно Моргачева.
- К слову. А взять ту же Африку. Недавно показывали какую-то страну по телевизору, по какому каналу точно не припоминаю, - так там люди совершенно голыми до сих пор ходят. И ничего. У них там климат позволяет. Да...
- А по праздникам они там друг дружку хором кушают, предварительно хорошенько прожарив на вертеле, - развил мысль Леонид.
- И что ж теперь будет? - вздохнул протяжно Моргачев.
- Надо что-то делать, надо что-то делать, - как заклинание повторял Алексей, никого не слушая.
- Вот и занялся бы люстрой, - напомнила ему жена.
- Что? - не понял Алексей.
- Свет! - уточнила она и показала рукой на дверь гостиной.
- Господи, да причем тут свет, когда...
- А что, ты хочешь теперь всю оставшуюся жизнь в темноте сидеть?
- Люда, - вмешалась Моргачева,- ну не надо так обострять.
- А что он в самом деле стонет, как я не знаю кто, вместо того, чтобы заняться делом? Все польза, - проговорила Людмила язвительно и вышла.
Лохвицкий улыбнулся при этом и поменял позу, стал с интересом разглядывать всех членов семьи. Происходящее ему явно нравилось.
Леонид часто поглядывал на него и нервничал, веки его странно дергались, руки не находили места, - он то засовывал их в карманы пиджака, то приглаживал ими волосы, то теребил брелок с ключами. Он был явно удручен случившимся, и взвинчен той нелепой ситуацией, в которой оказался вместе с товарищем, вместо того, чтобы, как ожидал - явиться к застолью, пить, есть, шутить и веселиться. При этом он не вполне даже отдавал себя отчет в том, что тревога о положении отца незаметно после первого шокирующего удара отодвинулась на задний план, ощущается не столь реально и остро, как собственные заботы. Будто нечто второстепенное из списка малоприятного житейского набора. А вот положение, в котором он сам оказался, как рисуется квартира и все семейство в глазах Лохвицкого, нервировало жутко своей натянутостью. Всемирный конгресс уродов! Особенно же раздражало его, что Алексей уж очень демонстративно переживает, словно специально показывает, как он один близко принимает к сердцу болезнь отца, подчеркивая тем самым, что все остальные, мол, козлы бесчувственные, бараны бессердечные. Что, мол, раз такое случилось - все должны стонать, рвать на себе остатки волос и биться головами об стену. Параноик, блин!
Леонид не мог сдержаться и, подхватив интонацию Людмилы, громко проговорил ей вслед, адресуясь, конечно же, к оставшимся и всего более к брату:Алексей вскинул глаза на Леонида, сжал зубы и вышел в ту же дверь, что и Людмила.
- Ну что, Юра, правда, весело мы живем? - спросил Леонид Лохвицкого и странно засмеялся при этом. - Знай наших!
Моргачевы переглянулись выразительно, но с мест своих не сдвинулись. Атмосфера в доме густой наэлектризованностью, висящим в воздухе предощущением скандала притягивала их, не позволяла уйти с места события. Они словно потяжелели, наполняясь ожиданием.
Лохвицкий поправил свои очки, крякнул, продолжая улыбаться чему-то своему, и спросил Леонида:
- Старичок, сто тысяч раз прошу прощения, а где тут у вас этот самый нужный чулан?
- Чего?
- Нужник, спрашиваю, игде?
- Ах нужник. Туалет в смысле? Так бы сразу и говорил. Пойдем, я тебя провожу.
- Да нет, мил друг, покорнейше благодарю, однако с этим я пока и сам кое-как, но все-таки еще справляюсь. Ты мне только направление верно укажи. В какую сторону держать путь для отправления естественных человеческих надобностей? Туда?
- Да.
Моргачева хихикнула, прикрывая рот кокетливо ладошкою. И посмотрела на мужа, как бы приглашая его разделить с нею веселье. Тот остался непроницаемым.
Тут появился Алексей в больших резиновых перчатках с плоскогубцами и почему-то с молотком. Леонид встретил его новыми шутками:
- О! Явление! А противогаз почто снял? Лёха, а топор-то остро наточенный где?
Алексей молча прошел мимо, остановился под люстрой и внимательно посмотрел на нее.
- Сейчас мастер сосредоточится, выберет направление деятельности, способ решения проблемы, выявит источник неполадок и будет ремонтировать непосредственно объект неисправности, - комментировал Леонид действия брата. - Надо спасаться, пока не поздно.
- Помог бы лучше, чем изголяться-то, - вошла Людмила и картинно подперла свои крутые бока руками.
- Слушаюсь, - с готовностью гаркнул Леонид. - Кого будем убивать?! Разумеется, тещу!
Он неожиданно подскочил к Моргачевой и обнял ее сзади, та, разумеется, взвизгнула.
- Ничего страшного, мамаша, не волнуйтесь, - уговаривал её Леонид, -Это не больно, один удар молотком и все позади... Только без рук, прошу вас. Ну, Лешка, давай!
Алексей развернулся и молча подошел к теще, слабо пытающейся освободиться от объятий Леонида. Она посмотрела на молоток в руках зятя и тоненько заголосила:
- Мальчики, хорошие мальчики, вы что?!
- Слабонервных и беременных просят удалиться, сейчас будет море крови! - страшным голосом возвестил Леонид.
Моргачева заверещала.
- Мама, прекрати! - резко крикнула Людмила, занятая перемещением посуды на столе.
Она освобождала центральную часть, ту, что под люстрой.
- Но он меня щекочет, - сквозь смех и взвизгивания сообщила Моргачева. – Оёй, не могу!
- Папа, хоть ты забери ее! - пыталась перекричать ее дочь.
- А я не отдам, - заявил Леонид. - Она теперь моя! Давай, брат, второго такого случая может не быть. Скажем, что несчастный случай. Упал, мол, инструментик-то на головку. И все! Леха, она вырывается. Скорей решайся...
Моргачевой удалось освободиться, она шумно дышала, поправляла прическу и платье.
- А каков был шанс, - мрачно пошутил Моргачев.
- Фу на тебя! - ткнула его в бок жена.
- Да, Леха. упустил ты момент. Папаша был бы тоже не против!
Алексей посмотрел на Леонида отрешенно и прошел в конец коридора к выступающему застекленному ящичку со счетчиком, открыл дверцу и нажал на кнопку автоматического предохранителя. Свет во всей квартире погас. Послышался глухой голос Лохвицкого:
- Э! Кто там балуется?! Накажу!
- Нет, скорее всего надо в самой люстре посмотреть. Может просто лампочка, - сказала Людмила. – Иди сюда, я приготовила стол.
Алексей послушно включил свет и аккуратно прикрыл дверцу электросчетчика. На освобожденное место на столе был водружен стул. Людмила со свечой в руках демонстрировала этот постамент. Алексей потрогал ножки стула. Заменил его другим. Моргачева бережно подхватила вазу с цветами и, проговорив, «от греха подальше», вынесла ее в другую комнату. Леонид, остановившись в дверном проеме, смотрел на неуклюже взбирающегося на стол брата.
- Может быть газету подстелить? - спросил он.
- Сойдет и так. Стирильно, - ответила Людмила.
- Я в том смысле советую, чтобы повыше было.
- Идиот.
- Алексей, может быть не надо? - продолжал Леонид в то время, когда брат уже вставал на второй стул и пробовал его устойчивость. - Дождись хотя бы наследников.
Алексей распрямился в полный рост и уже мог достать до причудливых бронзовых завитков, где в патронах гнездились лампочки. Он шутливо затряс коленями и проговорил:
- Прощайте, братцы!
- И этот туда же, шутник! - усмехнулась Людмила. - Смотри, лучше, не упади.
- А ты веревку не забыл? - лениво продолжал ерничать Леонид.
- Он все-таки шатается, - сказала Людмила. - Надо придерживать.
- Ты, Люда, оставь свечку и иди отсюда, ладно, - мягко попросил сверху Алексей.
- Это хорошая мысль. Совсем, - подхватил Леонид.
- Размечтался, - парировала Людмила.
- Так. Хватит вам, - прервал их Алексей.- Лень, иди и в самом деле подержи, а то он шатается, как я не знаю что.
Алексей дотянулся до первой лампочки и попробовал ее выкрутить, но у него ничего не получилось.
- Интересно, сколько лет назад вывинчивались эти лампочки? - спросил он кряхтя. - Или они тут всю жизнь?
- Ты не очень-то пыли там, - посоветовала жена.
- Может быть надо смазать чем-нибудь? - неожиданно громко предложила Моргачева. - Мой папа, помню, растительным маслом смазывал.
- Мама!
- Ну что мама, как что так сразу - мама. Да, смазывали, на даче, растительным маслом... Только не лампочки, кажется...
- Нет, не идет, - оставил очередную попытку Алексей.
- Я все понял, - воскликнул Леонид. - Сейчас все будет ок-кей! Внимание. Леха, крепко возьмись за лампочку, мы поднимаем стол и начинаем вращать тебя. А мамаша энергично ходит вокруг стола против часовой стрелки. Пошли, мамаша!
Моргачева послушно начала маршировать, высоко поднимая руки и глядя вверх. И только через некоторое время, увидев, что Леонид смеется, что Людмила неодобрительно качает головой, она спросила:
- А зачем?
- Чтобы у вашего зятя голова не закружилась! Хах-ха-ха...
- Кажется, провернулась, - сообщил сверху Алексей.
- Я ж говорил, что поможет! - все в том же тоне продолжал Леонид, умудряясь, одной рукой придерживая стул, второй брать что-то из тарелки и жевать.
- Так мне ходить или не ходить? - не могла понять Моргачева.
- Обязательно!
- Мама! Ленька, прекрати издеваться, или я не знаю, что будет! - Строго сказала Людмила и посмотрела на появившегося в дверях Лохвицкого.
Он остановился рядом с Моргачевым и поправлял штаны. Внимательно при этом рассматривал новую мизансцену в комнате. Алексей вынул лампочку из гнезда и протянул ее вниз:
- Возьмите, кто-нибудь, гляньте, перегорела она или нет, а то мне здесь ни черта не видно.
Леонид взял лампу, глянул на просвет, прищурившись.
- Вроде целая.
- А ну-ка дай сюда, - по-хозяйски забрала лампу Людмила и вышла в прихожую. Оттуда послышалось:
- Целая! Сам ты целый. Перегорела, конечно же... Проверь, как там остальные.
- Сейчас, если смогу.
- Лёшенька, осторожней, прошу тебя, мебель такая неустойчивая, - вставил свое слово Моргачев.
- Не упади на тещу! - подхватил Леонид.
- Боже сохрани, - поддакнул Алексей и подал брату очередную вывинченную для экспертизы лампу.
- А вот эта точно целая, - заключил тот, внимательно осмотрев ее.
- Давай сюда, я ее в другое гнездо вверну. А эта? – вновь присел с лампочкой Алексей.
- Горелая. Или нет? Тоже целая.
- Не могли же они все перегореть в раз, верно, - не то спросила, не то утвердительно заявила Моргачева, - Так разве бывает?
- В нашем доме все бывает, - веско заявил Леонид, и Моргачев отметил подчеркнутое это "нашем", отнеся его на свой счет.
- А может быть в вашем доме все-таки пробка сгорела? – не упустил возможности отыграться в тонкой пикировке тесть. - Пойти глянуть.
Моргачев степенно прошел по коридору, остановился возле шкапчика, принялся внимательно изучать расположение пробок.
За это время Людмила подала мужу две новых лампочки, которые тот и вкрутил на место перегоревших.
- Я пробую, - прокричал из коридора Моргачев.
Там что-то щелкнуло, весь свет в квартире погас. После очередного щелчка он загорелся снова. Люстра, как была, так и осталась мертвой.
- Да, придется все-таки электриков вызывать, - сказал на это Алексей.
А простодушная Моргачева подошла к выключателю и нажала пухлым своим пальчиком с вмявшимся в лоснящуюся кожу перстнем белую клавишу. Свет зажегся, люстра засияла, вызвав восторженный вопль Леонида, хлопанье в ладоши Людмилы и неистовые крики браво со стороны Лохвицкого.
- Да здравствует свет! - прокричал он.
И затем, утихомиривая остальных, шагнул вперед, поднял руки.
- Братцы, - восклицал он, активно жестикулируя, - братцы вы мои разлюбезные, вы себе даже не представляете, насколько здорово все то, что вЫ тут делаете! Это же просто блеск! Ионеско отдыхает, мамой клянусь!
Леонид оставил стул, предоставив брату спускаться самостоятельно, и подошел к Лохвицкому.
- Драматург заговорил! Что значит вовремя посетить нужный чулан. Помогло!
- Красота, - восторженно пропустил мимо ушей его колкость Юрий. - Это же просто подарок. Потрясная авангардная пьеса под названием "Люстра" или еще лучше "К свету". А?! Великолепный ход - из полной тьмы смельчак пробирается к свету. Кто-то мешает ему, раскачивает под ним стул, кто-то плетёт интриги с ожиданием долга, а кто-то мирно спит, переваривая сытный ужин, пока света нет. Тугим узлом сопряжены судьбы, потому что всех устраивает темнота, скрывающая грязь, пороки, невежество и прочую дрянь.
- Не зря погостили, - сухо сказал Алексей, примериваясь, куда бы безопаснее всего ступить на стол.
- Не зря, ох не зря, - продолжал возбужденно вертеть руками драматург и переставлять попадающиеся предметы. – Это вернее верного, стопудово - это так!
- Причитается, - улыбнулся Леонид.
- Сочтемся, - отмахнулся Лохвицкий. - Вы поймите, тут в простой бытовой сцене сфокусированы все социальные и даже глобальные, если хотите, конфликты! Класс! Алексей нерасчетливо шагнул по столу, задел овальное блюдо, потерял равновесие, стараясь, не наступить на прибор, спрыгнул со стола, неуклюже приземлился, упал, что-то зазвенело, разбившись. Алексей чертыхнулся и словно подстреленная птица, распластался на полу. Бездыханный.
Моргачева оказалась к нему ближе всех. Как водится, сначала она взвизгнула и вскинула ручонки свои к лицу. Затем она проворно стала собирать осколки.
- К счастью, к счастью, к счастью, - приговаривала она. – Лешенька, ты не ушибся?
- Живой.
- Кулёма, - оценила его действия жена, помогая подняться. – Хорошо, что я графин убрала, твоя мать бы этого не пережила.
- Да и тарелочка-то сервизная, - показала осколки Моргачева. - Была...
И вынесла разбитую тарелку на кухню, шумно вздохнув.
- И вот что еще, люди, - продолжал вещать воодушевленно Лохвицкий. - Усилия идущих к свету, несмотря на многочисленные преграды, препоны и просто провокации, приводят к успеху. И тут оказывается, что все, кому свет не был нужен или даже мешал, кто препятствовал только что, всё равно перестроились и приветствуют нового Прометея! Супер! Да здравствует свет!
- Есть предложение по этому поводу, - снял стул со стола Леонид, - сесть, как полагается.
- Не возр! - приблизился оживленный драматург, с удовольствием потирая ладони.
- Господа Моргачевы, где вы там? Есть предложение по поводу добычи света выпить и закусить, - громко позвал Леонид.
Алексей поднялся и вместе с Людмилой вышел. Получилось как бы специально, как бы демонстративно. И это еще больше подстегнуло Леонида.
- Прошу вас, гений, хоть нами и брезгуют, садитесь сюда, - куражился он, ставя сдвинутые на время ремонтных работ тарелки, рюмки и приборы на место. - Выпьем за новый шедевр.
Он налил из графина себе и Юрию, выпил, подцепил вилкою маринованный грибок, закусил. И только после этого сел.
- Напишешь? - спросил он, посмотрев на Лохвицкого, который гипнотизировал сквозь очки свою рюмку. Тот медленно выпил, и, зажмурившись, выждал минуту, словно прослеживая за действием проглоченной жидкости. Затем поставил аккуратно рюмку и ответил:
- Обязательно.
- Бред.
- Не спорю.
- Галиматья! - пододвинул к себе Леонид салатницу и стал есть ложкой прямо из нее с остервенением. - Собачья! Притом.
- Ленечка, следа за фразеологией, выбирай выражения.
- А пошел ты знаешь куда вместе со своими выраженьями, - зло прошипел Леонид, от еды впрочем не отвлекаясь.
- Грубый ты, - сказал Лохвицкий и налил себе еще. – Это не есть каращё.
- Леня, можно тебя на минутку? - позвал Алексей из коридора.
- Нельзя, - оборвал Леонид.
- Выйди, пожалуйста, - попросил брат настойчиво.
- Не выйду, - упорствовал Леонид.
- Как хочешь, - вошел в комнату Алексей и уже не считаясь с присутствием драматурга, который, не переставая есть, смотрел то на одного брата, то на другого с нескрываемым любопытством, проговорил отчетливо, явно сдерживаясь, - но только я хочу предупредить тебя, что это не общежитие и не пивнушка, где можно вести себя по-свински.
- Что ты сказал? - Леонид вскочил, сжимая кулаки.
- Что слышал, - спокойно ответил Алексей. - Только последняя скотина может вести себя так в подобной ситуации. Ни грамма совести или уважения. В тот момент, когда папа, может быть...
- Пошел ты, - махнул на него рукой Леонид и прошагал мимо, угаснув вдруг и моментально потеряв весь свой завод, бойцовский пыл. Опустив голову, он миновал коридор, открыл дверь и ушел, не простившись.
Алексей растерянно проводил его, потом перевел взгляд на Лохвицкого, который как ни в чем не бывало, сидел за столом и спокойно уписывал закуску. Никак не ожидал Алексей такой реакции со стороны брата. Характер Леонида был ему хорошо известен. Много лет они сталкивались во взглядах на самые, казалось бы бесспорные вещи, спорили, обвиняли друг друга, доходило и до вражды. Ни в какую никто не хотел уступать. И если со стороны младшего Леонида это было объяснимо - он привык быть в центре внимания, привык быть любимцем в семье, привык с детства чувствовать себя всегда правым, - ему позволялось многое, прощалось почти все - и рос капризным, никогда не уступал. Для Алексея же это было чем-то вроде самозащиты, самоутверждением что ли. Он старался изо всех сил любым способом отстаивать свое мнение, - в брате видел только то, чего сам был лишен, и чувствовал постоянно некую затаенную обиду. Может быть из-за обделенности вниманием, может быть из-за того, что Леонид был всегда более ловким, спортивным, сообразительным, хитрым, удачливым. Алексей находил особенное удовольствие утверждать себя в споре с братом по любому пусть даже и самому пустяковому вопросу. Когда пять лет назад Леонид вдруг объявил о женитьбе своей, папа сумел устроить ему и его жене прописку в бабушкиной квартире, она тогда еще была жива. Стали видеться реже, общение приобрело оттенок спокойного отстранения, вежливой терпимости. Но все же порой случались стычки ожесточеннее прежних. И братья по молчаливой договоренности сами по себе практически не общались, только при семейных торжествах, только посредством родителей, с которыми продолжал жить Алексей.
Поступок Леонида удивил Алексея. Хотя и было видно ему с самого начала, что Леонид не в своей тарелке, от того и куражится, что нервничает. Заноза сидела во взгляде. Что- то подсказывало Алексею, что напряжение, которое внес в дом Леонид, происходит от того, что он по каким-то странным причинам не мог не привести сюда этого лысого красавца Юру. Он очевидно жутко тяготился его присутствием, но и из-за него же главным образом хорохорился, лез в бутылку. При всем том он явно сдерживал себя, не был, как обычно ядовито-насмешливо-агрессивен. Сообщение о приступе случившимся с отцом сбило его с ног, это было видно, но не мог он открыться хоть на йоту, показать свои истинные чувства посторонним, каковыми, несомненно, были для него Моргачевы. Жена брата и ее семейство были объектом его постоянных насмешек. Что ни в коем случае не способствовало нормализации отношений братьев. Впрочем, шутил и измывался Леонид достаточно беззлобно. Тем не менее дистанция определилась сразу и глубокий ров никогда никем не был преодолен. Леонид иногда держался вовсе отчужденно и кроме неловкости никаких огорчений никто не испытывал. В этот вечер все шло наперекосяк. Такой вот выдался вечер. Если бы он встретился с мамой до ее отъезда, то, возможно, все пошло бы по-другому. Они умели ладить и понимали друг друга, как никто в семье. Но мамы не было. А теперь вот и Леонид ушел.
Алексей стоял и смотрел на Лохвицкого. Вернее, он смотрел в его сторону, но мимо, сквозь его лысую голову: Юрий поднял взгляд, поправил очки.
- Ей богу, ребята, мне у вас нравится, - вдруг сказал он и откинулся на спинку стула. – Вы такие все прикольные. Ты не куришь? - спросил он Алексея.
Алексей усмехнулся и вышел из гостиной. Не смог он, как только что собирался, выставить этого субъекта из квартиры, не смог сказать ему, что воспитанный человек должен был бы понять и почувствовать сам, - неудобно находиться в чужом доме в такой ситуации. Лохвицкому же она - эта ситуация - явно было по душе.
Людмила и Моргачевы сидели на кухне. Вернее, Моргачевы действительно, сидели, а вот Людмилу мать постоянно заставляла вертеться перед собой, отходить дальше, подходить ближе: она оценивала новое платье дочери.
- Ну ты тоже даешь, целый час хожу, а ты и не замечаешь, - упрекнула дочь родительницу.
- Как это не замечаю, я сразу заметила, это именно та ткань, о которой мы тогда с тобой говорили. Ну?
- Еще бы.
- Встань-ка... Повернись... Вроде нормально. Не слишком ли голо только?
- Самый класс! Пока есть, что оголять...
- Дорого, небось?
- В пределах... Главное, ты посмотри, как ткань летит, как складочки ложатся, - красовалась Людмила.- Это же настоящий супер-пупер блеск!
- И цвет твой, - одобрительно кивала Моргачева.
Муж её меланхолично жевал что-то, прислушиваясь к голосам и шумам в гостиной. Услышав, как хлопнула дверь, он насторожился, шикнул на женщин, те тоже притихли, отвлеченные от полета ткани. Пауза томила их недолго, скоро появился Алексей.
- Что, убрался, наконец? - опросила его Людмила.
Алексей кивнул утвердительно.
- Слава богу. А то мне показалось, что этот лысый ненормальный какой-то, с приветом...
На этих словах, сияя широкой улыбкой, с графином водки в руках, в кухню вошел Лохвицкий. Он, конечно же, слышал отзыв Людмилы о себе любимом. По-родственному обнял Алексея за плечи и пропел сладким голосом:
- Вот вы где прячетесь, милые вы мои. А у меня созрел очень актуальный тост,- продемонстрировал он графин в качестве подтверждения.
Моргачевы переглянулись выразительно, Алексей постарался освободиться от объятий, Людмила решительно шагнула навстречу гостю и забрала у него графин бесцеремонно:
- Вот что, милый мой, - сказала она ядовито,- у меня тоже есть тост и как раз про тебя.
- Очень интересно, - добродушно улыбался драматург, а глаза его сузились под очками и словно притаились. - Я вас самым наивнимательнейшим образом слушаю.
- Не пора ли, милый, тебе пора? - в упор опросила Людмила.
- В каком смысле? - переспросил Лохвицкий.
- В том смысле, что не пора ли и честь знать?
- Я так понял, вы меня гоните? Верно? Самым примитивным образом гоните в шею? Ведь так?
- Угадал.
- Как это мило.
- Тогда, всего хорошего, если все мило, до свидания. Пойдемте, я вас провожу. - Людмила поставила графин на стол и жестом пригласила драматурга к выходу. Тот и с этим предложением радостно согласился.
- До новых встреч, друзья. Было очень...
Но Людмила не дала ему закончить фразу, подтолкнула к двери. Оставшиеся на кухне Моргачевы переглянулись, при этом супруг выразительно поднял одну бровь, как бы салютуя бравым действиям дочери. Моргачева бесшумно захихикала, привычно прикрывая рот пухлой ладошкой. Алексей шагнул к столу, взял графин в руки и достал стакан. В этот момент раздался звонок.
Людмила открывала дверь, чтобы проводить Лохвицкого, а на пороге стояли Елена Петровна и Леонид.
Вернулись.
- Ключи я в другой сумочке, - объясняла Елена Петровна, заходя в квартиру. Лицо ее было бледным, глаза растерянными.
- Добро пожаловать, - картинно склонился Лохвицкий. И ручку свою правую к полу опустил, будто бы церемонно шляпу несуществующую кладя к стопам госпожи, но на самом деле просто собираясь снять пылинку с лакированного кончика своего башмака.
Елена Петровна недоуменно взглянула на него, потом на Людмилу. Та едва заметно усмехнулась, отступая вглубь коридора.
- Это Лохвицкий, мама, - объяснил Леонид. - Мой приятель. Драматург.
- Очень приятно, - рассеянно проговорила Елена Петровна и прошла мимо, тут же и забыв о нем. Движением руки Лохвицкий задержал Леонида и, глядя снизу вверх, тихо проговорил:
- Меня тут выставить собрались. Я мешаю? Мне уйти? Э?
- Уйдем вместе, как договорились, - ответил Леонид и пошел в комнату, где уже собрались все, обступили Елену Петровку, слушали ее сбивчивый рассказ. Лохвицкий погладил себя по лысине и тоже подошел.
Елена Петровна говорила бесцветным голосом:
- К нему не пустили. Поговорила я с Николаевым. Он сказал, что заключение делать преждевременно. Но положение серьезное.
- Он так и выразился? - спросил Алексей.
- Да. Сразу же, как привезли, сделали инъекцию. Какой-то новый японский препарат, не знаю... Да... Вот и все. Надо ждать. Завтра он обещал позвонить. До обеда.
- Кто, папа? - поспешил Алексей.
- Николаев, - нежно взглянула на него Елена Петровна. - Сообщит состояние.
- Ну нет уж, завтра я сам там буду.
- Положение серьезное, - выдохнула Елена Петровна и опустила глаза.
- А у нас люстра чуть не упала, - вдруг сказала Людмила, и сама тут же поняла, что могла бы этого и не говорить. У нее, как у многих женщин, слова опережали их осмысление, порождая тем самым массу неловкостей и курьезов. Этот был из разряда обычных, на него никто и внимания не обратил. Сказала и сказала.
- Мама, успокойся, прошу тебя, - наклонился к начавшей всхлипывать Елене Петровне Алексей. - Если там сам Николаев, значит все будет по высшему разряду. Тем более, ты сама сказала, что уже сделали инъекцию. Все будет в порядке, вот увидишь, он завтра позвонит и скажет, что все хорошо...
- Но, Лешенька, он же меня даже не пустил туда, к нему... И так смотрел на меня... Вернее, никак не смотрел, прятал глаза…
- Правильно сделал, что не пустил. Папе нужно полежать, успокоиться, а ты бы его своим появлением только разволновала. Видишь, все нормально, все правильно...
- Но он мне два раза повторил, что положение серьезное, ты понимаешь, что это значит?
- Я понимаю одно, мама, что тебе надо успокоиться.
- Действительно, мамуля, не расстраивайся ты так прежде времени, - довольно беззаботно брякнул Леонид, думая лишь о том, чтобы поддержать маму и успокоить ее, но и сам понял, что вылетела утлая инфантильная двусмысленность. Закусил губу, боднул воздух прежде чем услышал:
- А когда по-твоему расстраиваться? После времени? – спросила Елена Петровна и плечи ее затряслись.- Мамочка, ну зачем ты так, он не это хотел, - стал оправдывать брата Алексей, и тут же добавил Леониду. - А ты думай, что ляпаешь, дуролом!
- Да что вы все! - взмахнул руками отчаянно Леонид. - Я же имел в виду, что пока нет ясности даже у Николаева...
- Лёня, я прошу тебя, - взмолилась Елена Петровна.
- Тебе лучше помолчать, - тихо, но внятно сказал Алексей брату.
- Дети, - беспомощно подняла на сыновей глаза Елена Петровна и протянула им руки.
В наступившей довольно тягостной паузе резко и чужеродно прозвучал высокий голос Лохвицкого. Он откашлялся и заявил, ни к кому конкретно не обращаясь, но в поисках общего внимания выходя на центр гостиной, ближе к столу:
- Вот что я вам скажу, товарищи вы мои дорогие. Слушаю я вас и удивляюсь, честное слово. Взрослые люди, а говорите о каких-то инъекциях-хренъекциях. Мне больно это слышать. Неужели вы на самом деле принимаете все это всерьез?
Последний вопрос он почему-то адресовал Моргачеву, чем смутил его и вынудил вжать голову в плечи, сделать неопределенное движение всем телом, обозначающее полную непричастность к происходящему.
Елена Петровна подняла голову и к изумлению своему увидела прямо перед собой совершенно незнакомого человека, лысого и в очках, говорящего вещи совершенно непонятные. По ее лицу было видно, что она сомневается в реальности стоящего перед ней человека.
- Мама, это Лохвицкий. Юра, мой приятель, - еще раз представил Леонид своего товарища и почему-то покраснел при этом до ушей.- Я пригласил его...
- Да, так я что могу сказать, - хотел продолжить свою речь драматург, но Леонид прервал его:
- Юра, может хватит?
- В чем дело, старик? Что-то не так?
- Я прошу тебя.
- Нет, почему же, пусть твой товарищ говорит, - разрешила Елена Петровна. - Даже интересно, что он хочет нам поведать...
- Мама, - теперь уже удивился Алексей, и отошел к окну.
- Простите, Елена Петровна, вы воды хотите? - вдруг наклонился к ней Лохвицкий, заглядывая в глаза, - а то ведь в этой кутерьме никто и не догадается позаботиться о вас. Сухо во рту? Сельтерской какой-нибудь газировочки не налить ли?
Он спрашивал, а сам ловко действовал, используя расставленные на столике бутылки, фужеры. Налил, протянул один бокал Елене Петровне, второй осушил сам.
- Спасибо, вы очень любезны, - тихо поблагодарила Елена Петровна.
- Пустяки, - поставил свой фужер на стол Юрий и оперся руками о стул. - Так о чем это я, бишь? Ах да, о медицине. Очень хорошо. На мой взгляд вы все допускаете одну принципиальную ошибку, - Лохвицкий многозначительно поднял палец.- Вольно, или невольно, это уже другой вопрос. Насколько я понял, вы наведывались в некое весьма почтенное учреждение ведомственного здравоохранения. Не так ли? Верно я сориентировался по ходу действия пьесы? - опять свой вопрос Лохвицкий задал так, что показалось будто адресован он Моргачеву. Тот опустил на всякий случай голову пониже, но при этом продолжал с любопытством прислушиваться ко всему происходящему...
- Разумеется,- ответила Людмила пренебрежительно.
- Вот! - остался доволен ответом драматург. - Теперь следите за ходом моих мыслей и постарайтесь, если сможете, их опровергнуть. Я бы своего родителя, будь он теперь жив и заболей, ни за какие коврижки бы не отдал в ведомственное учреждение нашего здравоохранения, ни боже сохрани! Я отвез бы его в самую что ни на есть заштатную районную больничку, и там бы с легким сердцем оставил!
Закончив свой тезис, Лохвицкий победно сложил на груди руки и посмотрел на всех выжидающе, словно смакуя произведенный эффект.
- Ну и ладно, - махнул на него рукой Алексей.
- Подожди, Леша. А почему? - обратилась с вопросом непосредственно к оратору Елена Петровна. - Почему бы вы так поступили? Потрудитесь объяснить.
- Объясняю, - начал воодушевленно Лохвицкий и снова задвигал руками в такт словам. - Так уж устроен мир, наверное, что бабочки летят на свет. Создавая привилегированную сферу медицинского обслуживания, плодя закрытые, ведомственные поликлиники и больницы, мы тем самым провоцируем нормальный социальный механизм: когда, ощущая престижность данного заведения, туда устраивают и устраиваются люди в основном по блату, люди со связями, получившие образование не потому, что очень стремились именно в эту сферу деятельности, а потому что кто-то способствовал, покровительствовал. Разумеется, грех винить специалиста, стремящегося на самое теплое местечко, обеспеченное новейшей техникой. Но если взглянуть на ту же проблему со стороны хворого, попавшего в эти очень белые стены, то что мы будем иметь? О каком врачебном таланте, призвании и даже просто возвышенном отношении к профессии тут можно говорить? Бездари с дипломами и связями постепенно плодятся, заполняя все согретые места. Это извечный синдром ползучей экспансии. Вы же замечали. Как плесень непременно расползается и занимает все доступное пространство?.. Да. И не лечить приходят они, а писать диссертации высосанные из пальца, остепеняться и повышать свой уровень благосостояния. О качестве лечения и о таланте диагностики говорить не приходится, все искупается для больного в лучшем случае фешенебельностью палат, технической оснащенностью и кормлением по внутриведомственному рациону. Основной тут принцип – выздоровеет это заслуга нашей медицины, не выздоровеет - медицина была бессильна.
Лохвицкий закончил фразу, разведя руки в стороны просительным жестом и мимикой как бы приглашая: Ну же, мол. Опровергайте!
- Бред, - сказал на все это Алексей.
- Очень убедительно, - тут же подхватил Лохвицкий.- И главное, доказательно. Вы имели в виду тот факт, что там все светила науки - академики, доктора, члены корры и тому подобное? Верно. Это-то и замыкает порочный круг - ведь пациенты наивно думают, что раз академик, то обязательно поможет в любом случае, спасет. И надеются на него, и, разумеется, мрут, как мухи. А что им еще остается-то?
- Бред, бред, бред! - закрыл уши руками Алексей.
- Послушайте, как вы можете вот так безо всяких оснований порочить хороших специалистов и честных людей? - вступила в разговор агрессивно Людмила.
- Без оснований? - изумился ее вопросу Юрий. - Но ведь вы сами в глубине души согласны со мною, я уверен. Ведь я...
- Нет, нет и нет! - громче, чем следовало бы, заявила Людмила.- Ни в коем случае. И слушать вас больше не хочу! - Она встала между Лохвицким и Еленой Петровной, спрашивая. - Почему мы должны терпеть это, я не понимаю. Что он говорит? Чего он хочет? Почему этот человек здесь?
- Люда, успокойся, - тихо произнесла Елена Петровна.
- Не хочу я успокаиваться. Какой-то придурок морочит вас, вы уши развесили, слушаете. Я не понимаю, что вообще происходит в этом доме, - она резко развернулась и стремительно вышла из гостиной, прошла в свою комнату и хлопнула дверью.
Моргачева согласно кивнула при этом, явно поддерживая и одобряя действия дочери. Леонид стоял, прислонившись к стене, и смотрел безучастно под ноги. Елена Петровна крутила в руках наполненный фужер.
- Извините, молодой человек, - тихо сказала она, - но я тоже не совсем поняла, что вы хотели сказать. Вы что, отрицаете медицину как таковую?
Лохвицкий приблизился к Елене Петровне, наклонился, стараясь заглянуть в глаза.
- Нет, милая Елена Петровна, я не о том. Я о позиции. Вы пойдите в любую районную больницу, чем глубже район, тем лучше, чем ближе к земле, тем выше окажутся там специалисты. Самых талантливых, самых одаренных в центре никогда не признают, потому что они бросают тень на признанные авторитеты. Так уж испокон веку повелось. Гении всегда сидят где-нибудь в глубинке, в сложных бытовых и материальных условиях кумекают, творят непосильное свое дело. А потом - бах! - и мир удивленно вскидывает брови: куда мы смотрели?! Почему раньше светлому таланту дорогу не давали?! А Кулибин этот, глядишь, переворот в науке совершил. А сам-то, не дождавшись всемирного признания, возьми и помре...
- Как-то даже странно, честное слово, от вас, молодого человека, слышать такое, - после небольшой паузы заметила Елена Петровна. - Вы такую мрачную рисуете картину, что мол, здесь в центре вообще никаких проблесков нет, никакой надежды...
- Я не знаю, как на счет надежды...
- Мама, ты что не видишь, что человек упражняется в красноречии, что ему просто заняться больше нечем, - зло оборвал Лохвицкого Алексей. - Он же дурачит нас или провоцирует, но вот на что и с какой целью? Этого я пока понять не могу.
При этих словах Алексей выразительно посмотрел на брата.
- Я не знаю, как на счет надежды, - повторил невозмутимо Лохвицкий, - но мысль моя сводилась лишь к тому, что я бы лично, если бы с моим родителем сегодня что-либо случилось, инсульт ли, радикулит ли - никаких поликлиник! Я отвез бы его к бабушке какой-нибудь, не в больницу, нет. К старушоночке, которая заговоры помнит, которая пошептать умеет, которая травочки в лунную ночь собирает да и высушивает их в баньке. Вот кто по-настоящему знает человека, его сущность, знает, чем и как врачевать его, как выхаживать. А всякие там рентгены, супертомографы, осциллографы – эта хренотень от лукавого, она губит, а не лечит. Совершенно очевидная вещь.
- Нет, это выше моих сил, что уже черт знает что! – Алексей вышел из комнаты и стал греметь табуретками в кухне.
- Вот такие вот получаются пироги, - закончил Лохвицкий.
- У вас, позвольте спросить, есть высшее образование? - поинтересовался Моргачев тоном инспектора по учету кадров. Он позвоночником почувствовал, что ему пора вступать в разговор и что именно таким вот образом – строго и корректно – удастся с одной стороны поддержать реноме семьи – что важно, - а с другой - вывести ситуацию из явно конденсирующегося напряжения.
- Даже два, - охотно откликнулся драматург и бодро повернулся к появившемуся собеседнику, красноречиво демонстрируя лояльность и дружелюбие.
- Вот как? - оценил Моргачев и скептически улыбнулся, что должно было означать вполне определенную дистанцию,- мол, знаем мы эти ваши образования, насмотрелись за долгие годы на руководящих постах. Уже готова была родиться убийственно едкая и испепеляющая сарказмом фраза о том, что человеку с двумя высшими образованиями не пристало в приличном обществе вести себя как субъекту вовсе безо всякого образования. Но тут вмешалась Елена Петровна и расстроила великолепную тираду Моргачева:
- Понимаете, - поднялась она, - мне очень странно слушать вас. В нашей семье почти все медики. И сама я долгое время работала в системе здравоохранения. А Алексей вот заканчивает докторскую диссертацию. Скоро защита. И отец его всю жизнь... В нашем доме не привыкли к таким речам, поэтому все это очень странно...
- Я не хотел вас обидеть лично, - начал было Лохвицкий, складывая руки на груди, - никоим образом...
- Какой сегодня необычный день, - проговорила Елена Петровна и покинула гостиную.
За ней ушли в кухню и Моргачевы. При этом Моргачев постарался взглядом, брошенным на Лохвицкого и выразительным вздохом передать все то, что не успел сказать, особо подчеркивая свою поддержку позиции хозяйки дома – в знак этой искренней солидарности и согласия с нею во всем и покидал он помещение. Не желая таким образом оставаться в компании с сомнительным по убеждениям несмотря на полученное образование субъектом.
Лохвицкий опустил руки и присвистнул:
- Потрясающая тема! Лёнечка, мы кажется свободны, - подошел он к неподвижно подпирающему косяк Леониду.
Тот неожиданно схватил его за борта куртки и резко тряхнул на себя.
- Слушай ты, гений, - сквозь зубы процедил он. - Знаешь, кто ты после этого? Ты...
- Знаю, дружище. Только без рук, так мы не договаривались, - сказал он твердо и разжал пальцы Леонида. - Пойдем, ты меня проводишь. По пути можешь высказать свое ко мне отношение. Я разрешаю. Впрочем, нового или оригинального по убогости своей ничего ты не скажешь. Все давно сказано. Не так ли? Милый... Как ты думаешь, на меня не очень здесь обидятся, если я уйду не прощаясь?
Лохвицкий подошел к двери и остановился. Леонид понуро последовал за ним, щелкнул замком и выпустил товарища на лестничную площадку. Сам же задержался на пороге, хотел что-то сказать напоследок. Это должна была быть хлесткая, убийственная и главное, короткая, емкая фраза, которая бы поставила все на свои места. Но в голове почему-то было совершенно пусто и лишь недавнее мамино высказывание, словно случайная птица, залетевшая в помещение, билось о стекло: "Какой сегодня необычный день".
Оно напоминало японские стихи.
Лохвицкий спускался по ступенькам нарочито медленно, зная, что ему в спину нацелен взгляд. Леонид отсчитывал машинально его шаги, и уже точно знал, что ничего не скажет, опять ничего не скажет, не найдет нужных слов. На нижней площадке пролета лестницы Лохвицкий повернулся, вскинул глаза, сверкнув стеклами очков, и Леонид увидел, что драматург ему подмигивает, улыбается и заговорщицки подмигивает. Самое же удивительное было в том, что и Леонид подмигнул ему в ответ, причем вполне дружелюбно.
Тот ушел победителем, скрылся за поворотом широкой лестницы.
Леонид остался, ненавидя себя, презирая свою слабость и тупоумие, мягкотелость и постоянную зависимость от людей, которых он считал ниже себя, хуже себя, слабее себя, в числе которых теперь самым первым был именно Лохвицкий. Воплощением и ипостасью.
Леонид считал вполне искренне, что ищет себя, старался поступать честно и согласно велениям совести, пытался прислушиваться к ним и преодолевать постоянные искушения компромиссных решений, но только пока никак не получалось у него стать тем, чем чувствовал он себя, чем по его убеждению он обязательно должен стать. А виделось ему нечто очень возвышенное, не слишком, может быть отчетливое, но обязательно окрашенное броскими тонами лидерства, фавора, успеха. Его крупную личность должны были узнавать на улице, ему должны были подражать, на него ссылаться, к его мнению прислушиваться.
Подобное отношение к своей! персоне допустимо и объяснимо, например, в пятнадцать лет, да и то у натур мечтательных и излишне инфантильных. Леонид до сих пор сохранил затаенным с детства убеждение, что обязательно придет день, когда все, кто был рядом, кто недооценивал его, и весь мир вообще, узнают подлинную цену его. А она ох как высока!..
Узнают и изумятся, - и тогда только поймут его странности, его дерзкие выходки, поймут и простят.
Не меньше, чем героем своего времени мыслил себя Леонид. И хотя он никогда бы никому не признался в таимых своих чаяниях, но и сегодня еще точно как в детстве случалось порою, что он плакал ночами, буквально лил потоки слез самых настоящих горячих слез, кусал совсем по-детски ногти и молил бога, чтобы этот День пришел поскорее. Правда, в подробностях о том, что конкретно сам он должен для приближения этого дня сделать, он не знал.
Очень неровным и странным поэтому был путь Леонида к теперешнему положению. Он за многое брался, и быстро охладевал ко всему, что еще недавно казалось смыслом жизни, стержнем, магистралью в один день обесценивалась. Он метался от одной крайности к другой и часто сам не мог дать себе отчета в поступках, из-за которых случались и крупные разговоры с родителями, и всевозможные административные воздействия, и слезы матери. Три раза он бросал институт, переходил из одного в другой. Уже несколько мест работы сменил, закончив образование. Он разошелся с женой, не прожив и двух лет. Причем судился, скандалил. Сейчас его сын рос в другой семье и не вызывал у Леонида никаких чувств, кроме досадных воспоминаний о болезненных криках младенца и ужасной унизительной процедуре бракоразводного процесса.
А ведь было время, когда он так благодарил бога за сына, наследника будущих свершений, продолжателя славных дел. С тех пор, как стал он жить самостоятельно, когда после серии скандалов и истерик на почве срочной женитьбы, отец устроил ему прописку в бабушкиной старой, квартире, помог определить жену на новую работу, отношения Леонида с семьей складывались очень неровно. То он пропадал месяцами, даже не звонил, чем всегда очень огорчал мать, а то вдруг налетал, бурно рассказывал о новом своем этапе жизни, новой работе, новых увлечениях, жадно обедал, брал с собой все, что накладывала в сумку мать и исчезал. С отцом виделся очень редко, только по случаю семейных торжеств, от вопросов отделывался общими словами: "нормально", "лучше всех", "по-старому" и так далее. Отец был человеком очень занятым и потому, приняв по какому-либо вопросу однажды решение, более к нему не возвращался, воспринимал как должное. "Не хочешь в медицинский?! Твое дело!" - и сын выпадал из поля зрения профессионального и еще более отдалялся. Отцу трудно было понять и постичь метущегося великовозрастного ребенка, потому что сам он в эти его годы уже был начальником военного госпиталя, отвечал за жизни и судьбы десятков людей и ничего кроме работы своей не видел и не знал. Гипертрофированное представление об ответственности и болезненное чувство долга перекашивали восприятие реальности. За годами и десятилетиями, отданными профессии, конечно же, многое было упущено и в личной жизни и в воспитании детей. Но когда государство доверяло ему ответственные посты, он считал себя просто не в праве даже на самую малость поблажки, отдавал работе всего себя. Полагал при этом, что пример его для сыновей уже сам по себе будет достаточно веским воспитательным аргументом. Он многого достиг, был уважаем. Старший сын, хоть и не блистал, не рвал звезд с небес, но брал упорством и прилежанием, уверенно продвигался вперед, был на хорошем счету. Ну а с младшим так уж получилось, что с самого начала он что-то в нем упустил. Что-то важное с самого начала формирования личности сына было просто не додано, пропущено. И когда заметил, что рядом находится в общем-то совершенно незнакомый человек, было уже поздно что-либо исправлять. Да и можно ли исправить набело по своему представлению судьбу человека?
Леонид с самого детства был странным ребенком. Начитанный, он все схватывал на лету, память имел отличную и потому просто не знал, что такое тяготы учебы, ему все вообще давалось легко. Ему все и доставалось слишком легко. Из-за этого, наверное, такой тяжелой и неожиданно запутанной оказалась самостоятельная взрослая жизнь. Она воспринималась им, как репетиция перед началом главной, настоящей жизни. А та все никак не наступала...
Репетиция неумолимо затягивалась…
Леонид постоял у открытой двери, представляя себе, что за милый семейный разговор случится сейчас, если он вернется, и одновременно отгоняя от себя неприятные, тревожные мысли о папе, которые почему-то были связаны с ощущением огромной, неискупной вины перед ним. Постоял не столько даже колеблясь, вернуться или нет в квартиру - он уже знал, что возвращаться не стоит, - сколько, скорее всего, выжидая, когда удалится Лохвицкий.Леонид окинул взглядом прихожую, вздохнул и вышел. Было еще не очень поздно. В фиолетовом воздухе, разбавленном неоновыми огнями, ощущалась свежесть или, точнее, сырость. Сновали машины, сверкая огнями, поредевшие потоки пешеходов стекались к подземным переходам, к большим зеленым буквам "М". Многие окна светились призрачным голубоватым светом - отдыхающие жильцы дружно смотрели телевизионные передачи. Плотная, непроницаемая тишина своим колпаком накрывала город,, звуки казались неясными, краткими, словно их впитывала в растекающуюся тьму подступающая ночь.
*
Повезло деду Степану, под утро уже добрался до района, - спасибо, помогли заготовители, взяли в машину. Успел и на первый поезд до области. Следующего надо было бы ждать часов до семи вечера. То есть удача сопутствовала старому солдату. Через восемь часов он будет в городе, а там ночь, да день - и у цели. Ах, вот если бы еще не боль-страдание. Степан Спиридонович принимал муку мученическую - голова его, словно сдавливаемая раскаленным обручем, горела, вздувалась и становилась такой тяжелой, что ею не только пошевелить было нельзя, но и на плечах держать не было никакой возможности. Перед глазами постоянно маячили оранжевые с зелеными разводами пятна, часто гасли и на их месте образовывались черные дыры, медленно расплывавшиеся, съедавшие белый свет. Стиснув зубы, обхватив себя руками, сидел в углу дед Степан. Перемагал боль свою.
На него мало кто обращал внимание в переполненном по обыкновению плацкартном вагоне: сидит себе мужик, втиснувшись между столиком и окном, и сидит, никому не мешает, пусть себе сидит. А то, что с лица бел и глаза опалены красным налетом, - так мало ли их, которые либо не того выпили с устатку, либо вообще не опохмелившись маются...
Степан Спиридонович хорошо знал, что скоро вспыхнут перед глазами и рассыпятся тысячами искр огромные огненные шары, в то же время вонзится в затылок как раз под основание черепа длинная острая игла, немилосердно разорвет она прочную оболочку, что не дает главной боли проникнуть под череп, охраняет, разорвет и станет шевелиться, тыкать в разные стороны, колоть, обжигать, - и вот тогда уже не сможет человек вытерпеть, тогда уж только криком кричать, да молить о смерти, как об избавлении, тогда уж только одно...
После ранения в голову Авксентьев много лет лечился. Операция, сделанная в полевом госпитале, была успешной, осколок был извлечен, раненый выжил, но долечивание растянулось на многие годы, потому что разрушенные проникающим ранением ткани мозгового вещества не хотели подчиняться никаким вмешательствам медицины, рождали дикие боли, доводили до потери сознания. Причем болело не что-то конкретное, рука, плечо или голова, а как бы все существо сразу обволакивалось болью, пронизывалось ею. И страдало при этом немилосердно.
Боль накатывала волнами, то реже, то чаще, иногда предупреждая о своем приходе, иногда схватывая внезапно, на полушаге. Медики старались найти способ воздействия или выявить причины возникновения этих волн, но успехи их, прямо надо сказать, сводились к тому, что во время приступа вкалывался в руку пациента морфий, морфин, другие препараты, боль отключалась на время, но, совсем не побежденная, она затаивалась до поры до времени в тайном уголке, в комочке, клеточке, пряталась в свое гнездо, выжидала. Так и жили – боль в человеке, человек в боли.
Дед Степан застонал, скрипнул зубами, широко раскрыл глаза, стараясь различить сквозь рябь и плеск очертания вагона, попытался встать, придерживаясь за полки. Вагонный шум и гул, грохот поезда слышались через толстые ватные стены далекими и размытыми. Оживленные, обеспокоенные, равнодушные лица пассажиров, глаза, шевелящиеся губы, смеющиеся или жующие рты, заботливые руки, поддерживающие и провожающие - все плыло в мареве, все было сплющено и окрашено в красный цвет. Распухшая голова старика с трудом втискивалась в вагонное пространство, малейшие движения причиняли адскую боль, тряска передавалась по ногам и позвоночнику, - казалось, вот- вот расколется голова и пламенеющая, чадящая огненная масса боли вырвется наружу.
На мягких ногах, преодолевая страдания, дед Степан прошел до конца вагона, ничего перед собой не видя, не слыша голосов, не замечая лиц, не реагируя на толчки проходивших мимо пассажиров. Дернул ручку туалетной комнаты, раскрыл дверь и вошел, трясущейся рукой закрылся на ключ. Потом из внутреннего кармана пиджака достал коробочку, наподобие толстого портсигара, извлек из нее шприц, взял из пакетика ампулку. Делал все наощупь, как уже много раз, стараясь не опускать голову, не переливать боль через край. Закатал рукав на левой руке, приложил острие иголки к мягкой коже внутренней части локтевого сгиба, и, задержав дыхание, легонько нажал. Игла послушно и легко вошла под кожу, попала в голубую вену и пропустила через себя несколько капель бесцветной жидкости, тут же смешавшейся с кровью.
Прошло еще несколько секунд и боль, злясь и гримасничая, стала отступать, сдаваться, рассыпаться на мелкие части.
Дед Степан выдохнул шумно и прошептал отвердевшими губами сквозь сплошную пелену звона и клекота в ушах:
- Ну, слава богу, пронесло... Спаси и помилуй.
Это значило, что и на сей раз он сам справился со своей болезнью, не было припадка, не потерял сознание, не возили по лазаретам. Отдышавшись, поплескав на лицо холодной водою, Авксентьев сумел, уже почти не ощущая боли, разогнуться и посмотреть на себя в замызганное, облупившееся, треснутое зеркало. Зрачки светлых глаз, глядевших из-за стекла были предельно расширены, бледная кожа лица, казалась голубоватой, искусанные губы запеклись.
- Теперь доеду, держись только, полковник, - бессвязно пробормотал Степан Спиридонович и аккуратно опустил рукав рубашки.
В дверь застучали, ручка нервно задергалась. Может быть стучали и раньше, но Авксентьев не слышал, не замечал, сколько времени он тут находится, сказать бы он не мог. Проверил, все ли в порядке в одежде, пригладил волосы, бороду, тронул внутренний карман пиджака - на месте ли коробка? Открыл дверь. Ярко накрашенная упитанная девица с узкими заплывшими глазами обведенными синим карандашом, скривила губы в ухмылке:
- Ты че, дедуля, веревку что ль проглотил? - оттиснула она Степана Спиридоновича от прохода и хряскнула изнутри дверью так, что крышка ящика для мусора тут же напротив, подпрыгнула и жалко щелкнула своей искромсанной поверхностью, как вставной челюстью.
Медленно пробирался дед по вагону, разглядывал правые от столиков полки, чтобы не обознаться, не ошибиться, найти свое место.
- 0, а вот и папаша! - загудел дядька с обильной шевелюрой, в клетчатой байковой рубахе, когда Авксентьев появился в просвете и заглянул, ища глазами свой чемодан.
- Укачало, да? - заржал пышущий здоровьем сосед, пропуская Степана Спиридоновича на место.
- Старость не радость, - улыбнулся дед Степан, усаживаясь.
Улыбка его была по-детски открытой и беззащитной. Он хотел поблагодарить тех, кто помогал ему выходить, но закрыл глаза, отклонился к спинке и блаженно провалился в теплые воды полусна.
Дивные это были полусны после победы над болью. Много за свою жизнь повидал их дед Степан, кололи его в разные места и разными иглами, но когда выпустили, и стал он по разрешению и научению фельдшерицы положихинской Софьи Тимофеевны Ковалевой сам себе делать уколы, картины эти по преимуществу рождались светлыми и связанными обязательно с рекою.
Вода такая тихая, тихая, гладенькая, парит, словно утро это раннее, солнца нет еще, но уж развиднелось. Бесшумно, неслышно плывет по этой воде лодочка. А в лодочке - дед Егор. Глаза прищурены в улыбке, поблескивают, рубаха на нем белая, у горла застегнутая и сапоги сияют новые, начищенные. Как на фотокарточке. Дед Егор сидит на корме и правит веслом так справно и так умело, что лодочка катит по поверхности тумана, словно летит. А мимо проплывают стога пахучего сена. И вершит стога румяная, веселая в цветастом платье баба.Поля. Ловко орудует грабешками, притаптывает сено - то подгребает, держа грабли почти так же, как и Егор свое весло. Не то колокольцы, не то птицы, не то ангелы небесные заполняют все видимое пространство чудесной музыкой. И на зеленом, островке, мимо которого проплывает лодочка, пасутся белые козы. Стоит по бабки в воде ладный сытый конь, опускает морду к реке, пьет, дышит боками и по-барски степенно обмахивает себя длинным вычесанным хвостом. А когда подымает красивую свою голову и смотрит пристально на тех, кто проплывает мимо, срываются с его губ светлые капли воды и долго-долго летят к водной глади, медленно падают, рисуя ровные живые круги. "Фыр-р-рыр" - выдувает сквозь резные ноздри воздух конь и сторожко поводит ушами. Плывет лодочка дальше. Только не дед Егор это уже правит, а моложавый крепкий человек в белом халате и в белой же, на лоб надвинутой шапочке, он стоит вроде бы и на берегу, но в лодке, и печально так глядит и кивает головой, плыви, мол, сюда, солдат. Любил свои ведения дед Степан. Словно вторую жизнь в них проживал, жизнь сладкую, светлую, праведную. Никогда не было в них грязи и ужаса войны, не было мелочишки обыденной, но всегда лишь возвышенное парение - словно бы прямо от души к душе...
Глубоко вздохнул Степан Спиридонович, прощаясь с человеком в белом халате. Он так и не доплыл до него, так и растаял тот в светлом мареве, но был уже совсем близко, рядышком, можно было дотянуться рукою.
Когда до сознания Авксентьева докатился раскатистый смех и ворвался упругим ветром грохот вагонного шума, он открыл глаза и увидел, что сидит с протянутой вперед рукою, что все хохочут вокруг, на него глядя, и что весельчак в красной рубахе подставляет к руке старика бутылку пива.
Улыбнулся себе в бороду Степан Спиридонович, обвел всех спокойным взглядом.
- Извините, милые, прикорнул, однако, видать, - проговорил.
- Ну да, и во сне за похмелкой потянулся, - подхватил его слова вихрастый шутник.
- Прими, дедуля, все полегчает...
- Спасибо, - тихо и ласково проговорил Степан Спиридонович, взял начатую бутылку и, подержав немного в руках, поставил на столик. Он знал, что скоро, очень скоро его молодые попутчики перестанут обращать на него внимание, угомонятся. И поглядел в окошко.
Любил простор Авксентьев, душа его пела, когда он выходил на высокий берег и перед ним расстилалась даль. Как любой русский человек, он перенял от дедов и прадедов своих причастность к этим бескрайним просторам, сродственность с ними, неразделимость. И теперь, в кружении убегающего назад холмистого леса, в плавном танце берез и ракит, ручьев и урочищ, в зеркалах озер узнавал он себя самого, видел свои истоки и будущее свое, своих сыновей и внуков. Потому что пока стоит земля, пока есть эта неохватная твердь, быть и русскому корню, обитать здесь русской душе.
В вагоне же тем временем продолжалась своя жизнь, бурлил разговор или даже спор, начало которого дед Степан пропустил, маявшись со своей болью, и теперь содержание его не сразу ухватывал. Однако, было очень забавно видеть перед собой движущиеся картины заболоченных низин, чахлых деревень, оврагов и полей, а слышать при этом разные голоса, что-то друг другу объясняющие, доказывающие, не соглашающиеся. Было так, словно земля тысячью голосов разговаривала сама с собой, задавалась вопросами и пыталась отыскать ответы на них.
Дед сидел не поворачивался, старался по голосам различать, кто о чем толкует. Ну, того, что с пивом шутил, в рубахе, отличать было легко - низкий, чугунный голос, без колебаний, без сомнений, он бухал свои фразы, словно сваи вгонял - и тут бесполезны аргументы, возражения, доводы, этот голос знал только себя самого. Чаще всего рядом с ним или против него звучал немолодой уже мужской голос с надтрещинкой, прерываемый тихим кашлем. В голосе этом не было напора, но чувствовалась убежденность. Не мог представить Степан Спиридонович, кому принадлежал он, не запомнил лица. Видимо тот мужик, что сидит у прохода, коленки острые. Упругий, словно резиновый мяч, прыгал и звенел среди мужских голосов один женский, крепенький голосок, словно из-за прилавка, и все-то с какой-то ехидцей. Иногда вступал молоденький голос того парня, что помогал деду выйти, поддерживал под руку. Лица молодого человека Степан Спиридонович не помнил, но глаза были настоящими, глубокими, это сразу замечается. Вон у того, что сейчас крушит своим молотобойным рыком, глаза, как хорьки, шустрые, колкие, в норку норовят шмыгнуть, и не ухватишь. А эти большие подходили под то определение, что давал дед Степан немногим - глаза, как у доктора. Впрочем, что он видел-то тогда сквозь боленье, может и показалось ему, может просто так поддержал парнишка руку старика, чтоб тот на ногу ему не наступил...
А разговор меж тем, как часто в поезде бывает, когда спутники сходятся волею случая на сутки, чужие ничем не связанные, ничем не обязанные, соединяются в пути, чтоб затем разойтись навсегда и даже не вспоминать друг о друге, разговор завязался интересный, важный.
Дед Степан начал вслушиваться в него и постепенно отвлекся от созерцания, отвернулся от окна, стал смотреть на беседовавших соседей.
- Да что мне ты голову лечишь? - отмахивался от собеседника вихрастый. - Мне один мужик, а я ему верю, точно все рассчитал, если бы гайки все завинтить, если бы дисциплину вот так вот взять, - огромный кулак с лучами татуировки на тыльной стороне предстал перед глазами, как образ крепкий дисциплины. - И нарушений никаких не прощать, а то у нас знаете, как - вась-вась. ты мне, я тебе. И все улажено, все схвачено, за все заплачено. Так вот, если бы каждый отвечал собственной шкурой за сделанное или не сделанное, и чтоб за разгильдяйство расстреливать, вот тогда сразу бы тот уровень жизни, о котором ты толкуешь, стал бы на место. А без крепкого порядка все всегда будет оставаться, как было, только трепу больше... Бёнть!
- Точно! - с готовностью поддакнула женщина, сидящая рядом с обладателем красной рубахи.
- Но я же не о том, собственно, говорил-то, - попытался возразить пожилой человек в толстом свитере и потертых, залатанных на коленях джинсах. Волосы его светлые и редкие, прямыми паклевыми косицами падали на лоб, их приходилось забрасывать обратно или движением руки или резким встряхиванием головы. Этот жест вызывал в памяти норовистого коня. Впрочем, в данном случае сильно линялого. - Вы меня опять не так поняли.
- А ты говори о том, чтоб я понял! - вбил сваю вихрастый.
- Товарищ хочет сказать, Витенька, что у нас вообще не может быть нормального порядка, - объяснила, ядовито улыбаясь, спутница вихрастого, прижимаясь к нему теснее. - Я правильно вас поняла? - выгнула вверх свои нарисованные брови, обращаясь к человеку в джинсах.
- Есть историческая неизбежность всего того, что происходит, - не обратил на нее никакого внимания говоривший слегка хрипящим голосом мужчина, и привычно кашлянул.
- Не в том смысле, что все события предопределены, но в том, что правит их последовательностью с закономерностью исторической...
Дед Степан сразу понял, что этим не договориться, понял и то, что договариваться до чего-то определенного они и не стремятся. Им надо выговорится, надо высказать то, что накипело, чего в обычной, домашней обстановке и не скажешь. А потому беседа, спор, диалог, разговор шел не лоб в лоб, а как бы на двух повозках рядом, иногда цепляя друг дружку осями или оглоблями, они все-таки ехали каждый по своей дороге, каждый придерживался своей колеи.
- То есть, ты хочешь сказать, что вообще никто и ничего у нас изменить не может? Никогда? - по-своему понял высказывание оппонента Витенька.
Мужчина в свитере даже хлопнул ладонями по коленкам. Худые, они бывают прилипчивые, заводные. Эк, как оно его буравит. >br> - Ну причем тут, скажите на милость, это? – воскликнул он, вскидывая в очередной раз свои распадающиеся белые волосы.
- А при том!
- Да! - поддержала его спутница гордо.
- Вы, молодой еще человек,.. Интересно, вот откуда В вас это?
- Я ж говорю, у нас на стройке мужик один есть, он сечет, как тот политический обосраватель, его послушаешь, так и телек никакой не нужен...
- Ну а сами вы как работаете? - неожиданного спросил пожилой.
- Нормально! - бодро рубанул рукою воздух тот, кого называли Витенькой.
- То есть, вам лично милиционер за спиной нужен?
- На хрена он мне?
- Чтобы не опаздывать, не отлучаться, не отлынивать от обязанностей. Вы же так сами говорили? - буравил его подслеповатыми своими глазами человек в свитере.- Чтобы расстреливать вас в случае нарушения.
- Ну ты даешь, брунет! - зычно хохотнул Витенька.
- Не нравится? Вы ж за полный порядок.
- Я тебе вот что скажу, любезный мой. Когда на растворе стоишь, то не только покурить, поссать некогда! Во тут тебе и вся милиция и вся дисциплина. Диктатура бетона!
- Витька! - толкнула его в бок женщина и радостно хихикнула.
- И никакому надсмотрщику так не проследить за мной, как бетону. Он есть - все! Вкалывай, продыху не давай. А если задержечка случилась, тут уж покурить - святое дело... Нет, нам ничего менять нельзя. У нас и так полный порядок. Я ж получаю от того, сколько сделаю. Факт. Пусть лучше мочевой пузырь лопнет, чем я лепеху загублю... У нас - железно...
- Ах, так это вы не о себе рассуждали, это вы значит, вообще имели в виду порядок для других?
- Ну!
- То есть, мы хорошие, а вот остальных бы надо подтянуть.
- Да что ты пристал ко мне? Ешкин кот! Прокурор отставной в качель! Правда, дед? - неожиданно обратился он к Степану Спиридоновичу, юркнув своими зверьками-глазками.
Авксентьев кивнул согласно и перевел взгляд на пожилого. Уж очень деду Степану было интересно слушать этот разговор: вроде спорят, вроде ни в чем не согласны, а и тот, послушаешь, прав и другой тоже со своей стороны прав. Эк, загибают-то!
- К слову пришлось... В том-то и дело, что к слову, - закашлялся пожилой. Руки свои неожиданно большие, крепкие, сжав в кулаки, упер в колени. - Представление о нормальной работе, о порядке, о дисциплине даже у вас, молодежи, связывается прежде всего почему-то с принуждением, с жесткими мерами. Не о сознании вы почему-то печетесь, не о чести, честности, доброте порядочности, а...
- Какая там честность! - шумно выдохнул Витенька. - Знаем мы ее. Скажи, Лизон, когда ты последний раз честного человека видела? - обратился он к своей соседке и потряс ее за толстый бок. – Такого, что б сам, добровольно и бесплатно нашу жизнь делал чище и богаче...
- Во сне, - хихикнула женщина.
- О! Видал! Это противно природе человека. Каждый нормальный индивидуй норовит урвать побольше, пожирнее. И работу надо такую, чтоб ничего не делать, но чтоб всегда при интересе. Кому ж ишачить-то в поте лица хоцца? Вот я знаю деда одного. Со стороны поглядишь – нечем за почву цепляться. Божий одуван. Но голова! Предпринимательская жилка. Миллионер, ей богу. Знаете на чем деньги делал? На кладбище! Простой сторож, но с головой. Кладбище городское большое, многие на машинах приезжают, попроведать могилки. Дед возьми и сооруди шлагбаум. Не положено, мол. А за купюру - с нашим удовольствием. Это скромное добавление к зарплате, изо дня в день достаточно просто сделало его миллионщиком. И знаете что самое интересное – скопил капитал, а с кладбища, со своей сторожевой будки не уходит, зубами держится. При должности и при живых тити-мити. Идеал!
- И вы так спокойно говорите об этом?
- А че? Рыдать мне или завидовать?
- Ну а если бы вы, не дай, конечно, бог, похоронили, к примеру, близкого человека, приходили бы навещать его, а вас бы ежедневно обирали, как бы вы к этому отнеслись?
- Э, так тут другое. Ты не путай, не елозь. Старик-то с кого плату щелкал? С тех, кто на собственных иномарках прикатывал. Кому лень задницу оторвать от комфортабельного с кондиционером места и пройти по аллейке. Железная логика в том и заключена, что они ему сами с удовольствием платили. Это в норме вещей.
– Кто определил эти ваши нормы?
- Жизнь. Вот ты, студент, хотел бы всю жизнь на зарплату вкалывать размером в один прожиточный минимум? - хохотнул Витенька и наклонился к молодому человеку в светлом плаще, который все время сидел с журналом в руках, но не читал его, а вертел, листал, прислушиваясь к разговору.
Все посмотрели на него в ожидании ответа. Дед Степан мысленно поддержал студента "ну-ка, дай ему, парень!"
- Вы бы что сделали прежде всего, если бы у вас вот теперь оказалось сто тысяч? - спокойно спросил он вихрастого. Тихо, но твердо.
"Ай да молодец!" - восхитился Степан Спиридонович и заелозил на своем месте, довольный. Нравился ему этот молодой человек. И тем, что молчал долго, не лез, пока не спросили, и тем, что в глаза смотрит, когда говорит. А глаз-то глубокий, отметил дед, правильно мне привиделось давеча. И что ж он мог видеть-то такого в свои двадцать с небольшим, что за судьбинушка отложилась этой темной синью? Витенька усмехнулся и помотал своей крупной тяжелой головой. Причмокнул розовыми губами и хищно потер ладони одну о другую, предвкушая, значит.
- Ну, Лизон, говори, че с нежданным богайством делать станешь? - озорно перевел он вопрос женщине. Та захихикала по своему обыкновению, одергивая постоянно задирающуюся блузку.
- Да ну тебя! – отмахнулась. – Совсем.
- Не верит девушка в саму возможность неожиданного обогащения, потому что хорошо знает, как нелегко заработать честно свою копейку, - сделал вывод Витенька с прискорбным выражением лица.
- И все-таки? - поддержал вопрос пожилой,- хороший вопрос. Очень интересно.
- Значит, тебя интересует, что бы я сначала с самого сделал? - переспросил вихрастьй.
- Да, - подтвердил студент.
- Ну, это зависит от многого, - стал рассуждать вихрастый. - Например, от того, каким образом они у меня оказались – то есть краденные они или честные?
- Совершенно официально и легально полностью ваша сумма,- азартно подталкивал его, вскидывая голову с белыми прядями, мужчина в свитере.
- Типа наследство от родственника из-за океана?
- Наследство, если угодно.
- Тогда, конечно, прятаться не надо. Значит, законные мои бабки, да? Степан Спиридонович посмотрел еще раз на студента и подумал, что слишком уж серьезно ждет он ответа. Ясно же, что здоровый этот выскользнет. Ишь, как хорьки-то его запрыгали...
- Ты, милок, не волнуйся понапрасну, мы тебе и так верим, что в фонд мира ты их не сдашь! - высказался дед Степан. И все дружно рассмеялись. Студент тоже улыбнулся. Вот и славно.
При этом никто не заметил, как странно взглянул на деда Витенька, как сквозь смехом прищуренные глаза его проступило недоумение, столь несвойственное пышущей здоровьем натуре. Но лишь мельком, лишь тенью коснулось и растворилось тут же в густом общем гоготе. Хотя другого проняло бы и до основания. Было от чего.
Дело в том, что именно так и думал вихрастый, потирая руки: "Скажу-ка я им, что сдам всю сумму в фонд мира. Пусть рты пораскрывают». Типа приколоться хотел с серьезной мордой лица.
А старик этот припадочный, взял и угадал. Как с листа прочел невысказанные мысли. В тот самый миг – как вот думал Витенька - будто просветил рентгеном и срисовал по буквам. Аж мороз побежал меж лопаток. Хорошо, что спина широкая и крепкая, не выдала. Но в горле предательски запершило. И рассказать об этом тот же час, посмеяться над совпадением почему-то не захотелось.
Вихрастый запрокинул бутылку пива и прямо из горлышка осушил ее вчистую без остановки.
- Не такие это большие деньги, как по нынешним временам, - звонко заявила женщина. - На приличный домищко в пригороде и то не хватит...
Трудно сказать, как бы продолжался разговор, на какие экономические обобщения он бы вышел после этого замечания, но тут появился коренастый мужчина в темных очках и при портфеле. Уверенно и по-хозяйски открыв дверь, он вошел, оглядел он компанию, улыбнулся и произнес вместо приветствия:
- Весело сидим, - и с этими словами спокойно и по-свойски присел рядом с пожилым человеком на свободный краешек твердого сидения.
Естественно, разговор прервался, и все взгляды дружно сошлись на неожиданном госте.
Тот неторопливо поставил объемистый портфель на колени, как ни в чем не бывало, стал расстегивать замки и спросил вполне обыденно и добродушно, будто продолжая беседу:
- Итак, путники, кто из вас держал в руках миллион живыми деньгами?
Пауза была ему ответом. Даже Витек и тот не нашелся с ответом, хотя и уловил слово миллион мгновенно, глазки его при этом сверкнули. Но он только почесал за ухом и вопросительно посмотрел на свою спутницу. Та как загипнотизированная смотрела неотрывно на портфель незнакомца. Дед и его линялый сосед тоже безмолвствовали. Реакция была именно та, на которую и рассчитывал спрашивающий.
- Вот и ладушки, - продолжал он ровным голосом, как по заученному тексту. - Беспроигрышная лотерея «Фортуна» гарантирует каждому участнику миллион.
Жестом иллюзиониста незнакомец извлек из недр портфеля пачку разноцветных бумажных полосок и в качестве доказательства поднял их для всеобщего обозрения. Произнес при этом весомо:
- Как минимум.
Пестрый веер бумажек стал центром внимания всего купе.
- Ну и почем у вас миллион? – спросил с улыбкой студент.
- Бесплатно. Совершенно бесплатно, - с готовностью отозвался распространитель.
- И много их у вас?
- Всем хватит.
- То есть вы так вот просто ходите и раздаете миллионы нуждающимся?
- Выходит, что так.
- И зовут вас Санта Клаус.
- А что значит беспроигрышная? – выдохнула Лиза и потянулась к билетику. Букет остановился прямо перед нею.
- В лотерее «Фортуна» не может быть проигравших. Потому она официально и называется беспроигрышной. Математически безупречная модель.
- Вот с этого места поподробнее, - пододвинулся поближе Витек.
- Вы хотите стать обладателем миллиона!? – тут же непосредственно к Виктору обратился незнакомец, так ловко построив фразу, что невозможно было понять спрашивает он, или наоборот утверждает.
- Я готов стать обладателем сразу двух миллионов, - в тон ему ответил Витек и для убедительности притязаний сложил вместе свои огромные ладони с растопыренными пальцами в виде лукошка.
- Нет ничего проще, - пропускал жестикуляцию без внимания гость. – Только от вас самих зависит размер вашего выигрыша. Лотерея лишь дарит вам универсальный инструмент для этого…
Дед Авксентьев поначалу прислушивался к происходящему, старался понять произносимые слова, но организм не хотел подчиняться. Усталость, умноженная дозой снадобья, взяла своё. Степан Спиридонович пригрелся в уголке, поджал уютно ноги и уснул, провалился в мягкую тьму. Изредка ему чудилось, будто он слышит тягучий голос матроса-инвалида, совсем безногого на маленькой тележке с колёсиками передвигающегося вдоль вагона, ловко отталкивающегося руками от пола и стенок и белозубо поющего про яблочко, куды ты котишья, попадешь ко мне не воротишься… Очень много было в первые послевоенные годы инвалидов, калек увечных в пригородных поездах, на автобусных станциях, - они отчаянно рвали меха гармоник, горланили самые ходовые песни – чтобы на собранные гроши купить водки и залить свою боль. Много лет дед Степан не мог забыть лицо солдата, которому в госпитале ампутировали обе ноги, и он кричал осипшим голосом, просил докторов отослать его ноги по почте главному людоеду, который никак не может насытиться человеческим мясом. Санитарка, чтобы поддержать раненого, ласково обещала ему, мол, обязательно отошлем, ты только адрес скажи…
А тот возьми и четко так, словно по радио, объяви: «Москва, Кремль, генералиссимусу Сталину!» И засмеялся так яростно, взахлеб, до икоты. Его глаза красные с сожженными веками, неестественно широко раскрытые запечатлелись ожогом ужаса страданья и отчаянья.
Степан Спиридонович хорошо помнил, что до войны и в саму войну вплоть до самого ранения, всё всегда было связано с именем Сталина. А как же иначе – Вождь он и есть вождь. Портреты его вместо икон в домах висели, именно с этим именем на устах гибли мальчики в войну, в атаку поднимались, на танки шли «за Родину, за Сталина». И хриплый солдатский крик объединял эти два слова, превращал их в одно понятие, вмещающее в себя отчизну, строй, власть, судьбы детей, будущий мир. И сам дед Степан много раз кричал эти слова. Но никогда не имел в виду конкретно этого человека с трубкой или с поднятой рукой и прищуренными глазами. Нет, это имя связывалось всегда с чем-то большим, с чем-то самым главным, сокровенным, отличающим нас от всего остального мира. Безоговорочно верить приказам партии, доверять во всём её руководителям - так было заведено. А кем и зачем, и с какой целью - никогда не обсуждалось. Как не обсуждались и прочие абстрактные проблемы - откуда, мол, взялись белые? Или, почему именно японцы напали на нас? Надо было вставать под ружьё и бить беляков! Били. Гнать японцев. Гнали! Точно так же дружно и ни в чем не сомневаясь раскулачивали друг друга, боролись со скрытыми врагами народа, с искривляющими едино верную линию партии. В этом единодушии, в этом всеобщем энтузиазме, в вере беспредельной и таилась сила народная. А то, что этой безграничной силой всегда кто-то управляет, кто-то направляет её по своему усмотрению, в расчет не принималось. Надо! – и дело с концом. Велели бы рыть один большой канал, чтобы соединить Черное море с Тихим океаном и рыли бы! С песнями! И выполнили бы обязательно, потому что это дело стало бы уже общенародным, собственным, кровным. Казалось бы, что именно от выполнения этого грандиозного задания зависит счастье народа и его жизнь, благосостояние родного государства,- как тут можно жалеть себя? Когда тут задумываться или сомневаться? Надо работать, надо выполнять!.. И работали и перевыполняли и были счастливы… Сам дед Степан долго лечился после войны. Боль и беспамятство сгладили годы. Он не стоял в слезах в трауре под паровозные гудки в марте пятьдесят третьего. Не спрашивал осиротевший горемычный растерянно вместе со всем народом :- Как же мы теперь жить будем? Не читал доклада о разоблачении культа, о переименовании городов, о ликвидации памятников, об изъятии из мавзолея и всего остального, что было через три года после смерти вождя. Он страдал и мучался непереносимо, война жила в нем, рвала его на части, терзала и, казалось, не будет этому конца. Потом осуждали и разоблачали перегибы Хрущева, воодушевившего народ частичной правдой. Потом долго и дружно всем народом читали вслух воспоминания Брежнева, награждали его золотым оружием, бесчисленными орденами и премиями. Чтобы вскоре после его смерти обратно переименовывать названные его именем города и площади. Дед Степан, когда излечился, когда воскрес и приходил иногда в сельмаг, чувствовал, что вместе со всеми одобряет и поддерживает объявленные перестройку, ускорение и госприёмку. Ему нравились бодрые голоса, вещающие по радио о новых успехах, о непреклонном выполнении, о стоящих первоочередных задачах. По состоянию здоровья и возрасту он уже не мог подключиться к всеобщему процессу, но знал, что это правильный процесс, верный курс. И если даже со временем опять случится разоблачать его и критиковать как очевидный перегиб, всё равно жизнь будет продолжаться, будут новые люди, новые планы, а перспективы останутся прежними - счастье трудящихся. И миллионы людей будут работать во имя этого счастья, как работали и все предыдущие поколения.
Дед Степан незаметно для себя начал улыбаться своим мыслям. Он подумал, что было бы очень хорошо, если бы ученые придумали какое-нибудь средство от болезней, от страданий, от смерти. Тогда бы жизнь и вообще стала замечательной. И тут он услышал голоса своих попутчиков, которые, оказывается, опять оживленно беседовали, спорили.
- Так вообще знаете до чего можно договориться? – упрекала собеседника женщина.
- Знаю,- решительно отвечал пожилой.
- И не боитесь?
- Я правды никогда в жизни не боялся,- судорожно взмахивал он рукою.- А вы чего улыбаетесь? - неожиданно адресовал он свой вопрос Степану Спиридоновичу. - Не верите?
- Бог с тобой, милый, верю, конечно верю,- поспешил его успокоить дед Степан.- А улыбаюсь я своему... Вспомнилось разное...
- Водички бы вам выпить,- участливо склонила голову Лизон,- вон вы как разволновались из-за пустяков...
Белоголовый дышал глубоко и часто, смотрел на неё широко раскрытыми глазами.
- При чем здесь вода? - не понял он.
- Выпить,- объяснила женщина и для убедительности показала рукою, как пьют из стакана.- Успокоиться. Чтобы.
- Да, я бы тоже попил,- сказал дед Степан.- Милый,- обратился он к студенту,- не посчитай за труд, сходи принеси водички.
- Сейчас,- встал молодой человек и вышел в коридор.
- Не надо бы вам так волноваться, вот что я вам скажу,- проговорил Степан Спиридонович и дотронулся до руки соседа.
- Да я и сам знаю, что это смешно, что всё без толку,- тихо согласился белоголовый.- Только когда такое вот встречаю...
- Надо любить и верить, понимаете. Как бы больно не было,- продолжал успокаивать его дед Степан.- Верить в то, что все будет хорошо. А если злиться, то что ж это получится? В любви жизнь, а не в злобе, верно?
- Вы что, верующий что ли? - округляла глаза Лизон.
- Да, я верю,- улыбнулся Степан Спиридонович,- верю в счастливое будущее трудящихся, Верю, что ученые придумают когда-нибудь такое лекарство, которое бы помогало людям не только выздоравливать, но и становиться счастливыми!..
- Лучше б они придумали лекарство от лжи,- подхватил мысль пожилой.
- А может быть это одно я то же лекарство? - взглянул на него дед Степан лукаво, - только, должен заметить, правда - она, как огонь, жжётся, если её руками удерживать, всё равно вырвется...
- Так-то бы,- вздохнул сосед.
Лизон утратила интерес к разговору, принялась рассматривать журнал. Пожилой тряхнул в очередной раз своими белыми волосами и закрыл лицо руками.
Тут вернулся молодой человек со стаканом воды. Остановился, улыбнулся.
- Вода прибыла! - доложил. А когда протягивал стакан деду Степану, плащ его светлый распахнулся, полы разъехались на груди и сверкнули вдруг на пиджаке две медали "За отвагу" и орден Красной Звезды.
Степан Спиридонович стакан взял, но пить не стал, не в силах оторвать взгляд от наград молодого человека, совсем юного, мальчика, но опаленного, оказывается, смертельным огнем.
Заметив замешательства старика, парень улыбнулся еще раз, спокойно запахнул плащ и проговорил:
- Пейте, дедушка, на здоровье, я еще принесу.
- Спасибо тебе, сынок,- проговорил тихо Авксентьев и вспомнил бой, в котором получил своё последнее, смертельное, как все считали, ранение, бой, за который награжден он был полвека назад медалью "За отвагу"...
- А где, скажите на милость, тот, что миллионы-то раздавал? – спросил Степан Спиридонович через некоторое время, обведя всех взглядом. – Что, мне не оставили ни одного миллиона?..
И его простые слова вдруг высекли искру – все одновременно засмеялись, захохотали радостно до слез, захлопали себя по коленям и долго не могли успокоиться. А дед никак не мог понять, чем же это он всех так развеселил. Но и сам скоро стал широко и счастливо улыбаться. Скумекал, что пропустил, забывшись, что-то важное или смешное. А может быть и вообще никого не было ни с какими билетами лотереи «Фортуна». Никто не сулил миллионы за просто так – может быть все это тоже только привиделось…
В любом случае смеялись от души попутчики.
Ехал неспешно пассажирский поезд по болотистым краям, ехал среди речушек и выкошенных лугов. Ехали в нем люди. И каждый вёз свою судьбу, у каждого впереди была своя цель...
*
Антон Андреевич Николаев был невысок, крепок, подвижен.
В коренастой широкоплечей фигуре его чувствовалась затаённая энергия, походка была легкая, стремительная, пружинистая. Никогда не пользовался лифтом - только пешком. Регулярно посещал бассейн, сауну - держал себя в спортивной форме. И мало кто из встречных догадывался, уступая дорогу энергично шагающему мужчине в светлом костюме, что этот источающий бодрость моложавый человек - главный в стране специалист по сердечной недостаточности, директор крупнейшего института, академик. Многие его сверстники, заканчивающие шестой десяток лет, были его пациентами, жаловались на постоянную усталость, выглядели стариками. И Антон Андреевич не без гордости носил идеально белый халат с короткими рукавами. Он считал нормальным, что легко переносил двенадцатичасовой рабочий лень, что многое успевал сделать и по вечерам у себя в домашнем кабинете, что поднимался всегда бодрым, трудоспособным, нацеленным. "Культура человека базируется на физической культуре",- повторял Николаев своим аспирантам неустанно. Каждый день профессора был расписан заранее. Четкий график действий позволял выбирать наиболее оптимальный вариант использования своего времени. В специальном блокноте регулярно записывались ранее намеченные дела и особо важные недреманно отмечались восклицательными знаками. Бывало, что перспективное расписание жизни убегало и на несколько недель вперёд, когда намечались, к примеру, международные симпозиумы, правительственные встречи, конгрессы. Антон Андреевич много лет трудился, словно хорошо отлаженный механизм. Не пил, не курил, много часов помимо непосредственной практической работы ежедневно просиживал над книгами и с компьютером – изредка устраивая себе перерывы, когда спина начинала неметь – просто делал стойку на руках и отжимался пару десятков раз. Суток все равно не хватало – планов постоянно было больше, чем времени способного вместить в себя их воплощение. Поздно вечером исправно вычеркивал из длинных списков всё выполненное в этот день. И тут же составлял новые перспективные списки пестрящие восклицательными знаками. Всего более он не любил, когда вторгались в четкое расписание жизни какие-нибудь непредвиденные факторы.
Николаев в своем институтском кабинете привычно посмотрел на записи предстоящих сегодня дел. И первым же пунктом, отчеркнутым красным цветом были три прописные буквы: ЛПК.! - что означало: Леонид Петрович Купреянов.
Во вчерашний список намеченных дел, - рядом стоял еще жирный восклицательный знак, - пришлось вносить существенные изменения.
В восклицательном знаке этом нажима чувствовалось больше, чем требовалось для простого обозначения особой значимости и первоочередности пункта. Этот знак в сочетании с заглавными буквами разрастался для Николаева в целый клубок житейских и служебных коллизий. Основными в этом клубке были очень тонкие нити взаимоотношений с Купреяновым. Дело в том, что Купреянов, человек пожилой и заслуженный, очень всеми уважаемый, в свое время крепко помог молодому Николаеву, поддержал его в тот момент, когда от такой солидной поддержки зависело дальнейшее продвижение ученого и специалиста. Это было еще на защите кандидатской диссертации. Прошло уже много лет. Но, разумеется. Николаев помнил об этом. Впрочем, он никогда и не забывал, что, если бы не молчаливый этот грузный старик, Леонид Петрович, если бы не веское его своевременное слово, то не был бы Николаев сейчас тем, кем он стал. Особенно же задевающим обостренное самолюбие Антона Андреевича было то обстоятельство, что за все эти годы Купреянов ни разу не дал возможности себя отблагодарить. Даже косвенно. И при этом создавалось впечатление, будто старик и не помнит о своей поддержке, о том значении, какое имело его выступление для старта Николаева, то есть. - что он и не подозревает будто бы о внутреннем долге со стороны Антона Андреевича. Было время, когда Николаев всерьез занимался вычислениями – мол, старик так тонко устраивает все, рассчитывая на крупную взаимность, и ждет лишь удобного момента для того, чтобы намекнуть. Но проходили годы, Николаев довольно часто встречался с Купреяновым по работе, каждый раз внутренне напрягаясь, но никакого намёка так и не последовало. Из чего можно было заключить, что Леонид Петрович или же на самом деле ничуть не тяготился неоплаченным долгом своего давнего протеже, или же просто считал давние свои дела вполне обыденными, тривиальными, внимания не стоящими. Николаев порою зло высмеивал сам себя за маниакальную мнительность и щепетильность в подобных вопросах. Но поделать с собою ничего не мог – думал о растущем долге постоянно, хорошо понимая, что по большому счету в каждой его собственной победе реально присутствует весьма значительный вклад Купреянова. И вот тут в четкое расписание обыкновенного рабочего дня академика ворвался приступ, случившийся у Леонида Петровича.
Однажды Николаев слукавил и в юбилей почти анонимно послал Купреянову дорогой подарок. Впрочем, так и не узнал, был ли он получен. Эти внутренние терзания неприятны и непривычны для Антона Андреевича, потому что он всегда ценил время, ценил людей, их способности, и по возможности делал это сразу - способствовал назначениям, наградам, продвижениям, или, наоборот, прочно закрывал для человека доступ в определенную сферу. Считая себя человеком прямым и открытым, Николаев очень легко и естественно находил такие формы общения с людьми, что без натяжки и без излишних церемоний брал к себе в институт человека посредственного, в котором был заинтересован кто-то, кто очень мог помочь с закупкой уникальной аппаратуры. Деловой расчет основывался на простом вычислении – что выгоднее, отказать просителю (который тоже не просит, а лишь даёт понять намеком едва уловимым) и расстаться с мечтами об аппаратуре, или же пристроить серого протеже, зная, что никакая бестолочь не потопит целый корабль, обеспечивая заодно себя самыми совершенными приборами. Из двух зол всегда можно выбрать меньшее. Институт Николаева был на очень хорошем счету, филиалы его множились, плодились по мере роста количества учеников во всех крупных городах. И в этом росте тоже была ясность и четкость общей линии директора: штаты постоянно расширялись, их нужно было пополнять.
На одиннадцать часов был назначен консилиум. Результат его, разумеется. Николаеву был заранее ясен. Как, впрочем, и всем вызванным специалистам. Но эта мера необходима, положена, и надо было провести ее в жизнь, запротоколировать. Николаева беспокоило то, что застарелый сахарный диабет делал невозможным даже обычное вмешательство, сковывал намеченную программу.
Еще в прошлый раз, когда Купреянов отлежался и полностью восстановился в санатории, до Николаева дошел слух, что именно его планируют, на место Леонида Петровича, в случае... И теперь этот слух не давал Антону Андреевичу покоя, ему казалось, что об этом знают уже все и только и делают, что шушукаются за спиной. Может быть именно поэтому так поторопился Николаев с назначением консилиума? Поэтому так трудно ему было вчера смотреть в глаза Елене Петровне, - а что, если и она знает? Что, если и ей уже шепнули доброжелатели? Да и не могли не шепнуть - в одном котле варимся. Мол, вот она ваша благодарность за содействие! Человека подсиживаете! Николаев сказал ей, что обязательно позвонит. Сказал, зная заранее, что делать этого не станет. Пообещал просто для того, чтобы поскорее избавиться от настороженных ее, умоляющих глаз. Почему-то хотелось закричать: "Не смейте, слышите, не смейте так думать! Елена Петровна! Я тут ни при чем!" Разумеется, кричать Николаев не стал. Он лишь пообещал позвонить и отвел глаза, сделав вид, что чем-то занят. Сейчас, сидя в своем кабинете за столом, Антон Андреевич обвел восклицательный знак кружочком, постучал карандашом по широкой полированной столешнице, словно пробуя ее на прочность и, после небольшого раздумья, нажал кнопку вызова секретаря.
Запись, обведенная кружочком, означала дело списанное, завершенное, к нему возвращаться не полагалось.
Вошла бесшумно статная, длинноногая Дина, изобразила на лице готовность услужить – бровки выжидательно приподняла. Была вся внимание.
- Вот что, Динуля, - проговорил Николаев, головы от бумаг не поднимая, словно полностью поглощенный неотложными делами. - Сейчас начнут звонить. Так меня ни для кого нет. Я в клинике.
- А если из дома?
- Меня ни для кого нет. Понятно?
Ровным голосом своим и усердным необращением внимания на девушку, Николаев подчеркивал основательность причин, по которым должен идти на такое баррикадирование. В общем-то, он так или иначе в клинике будет обязательно через час, полтора, то есть, не сильно-то и соврал.
Дина кивнула, постояла несколько мгновений в ожидании продолжения. Не дождавшись, вышла, тихо прикрыв за собой дверь.
Заученно и совершенно искренне она будет отвечать теперь звонящим, что Антона Андреевича нет, вполне искренне будет спрашивать, что ему передать, когда он вернется. И ей будут верить.
*
Елена Петровна сидела возле телефона и рассеянно смотрела на часы. Ей казалось порою, что стрелки замерли на месте, прилипли к циферблату. Если бы не плавные, ритмические колебания тяжелого маятника, можно было бы усомниться в исправности старого механизма. Необычайно медленно тянулись утренние часы и минуты. Делать ничего не хотелось, да вроде бы все уже и переделано: еще вчера все перемыто, перечищено. Сегодня все расставлено по местам. То есть и следов неудавшегося застолья не осталось. Разве что в переполненном холодильнике было непривычно тесно. После ухода Алексея в квартире сделалось совершенно тихо, тревожно тихо. Людмила, по обыкновению спала, во всяком случае из комнаты своей не появлялась. И Елена Петровна чувствовала себя неуютно, как на чемоданах…
Она хотела было с самого раннего утра поговорить с Алексеем, но тот умывался и брился молча, стараясь не встретиться с матерью взглядом, пил кофе напряженно-сосредоточенно. Слова не проронил. Тут он в точности повторял отца – не подступиться.
Елена Петровна еще раз посмотрела на часы и набрала номер автоматического ответа точного времени. Равнодушный женский голос проговорил: "Девять часов, тридцать четыре минуты". Настенные часы в гостиной показывали половину десятого. Взяв стул, открыв дверцу часов, Елена Петровна передвинула минутную стрелку назад, при этом задела маятник, и он остановился. Несмотря на многочисленные попытки вернуть им жизнь, часы после этого идти ни в какую не желали. Маятник после толчка делал несколько колебаний и повисал безжизненно.
- Ну вот, - закрыла часы Елена Петровна, отошла от них и села на стул. - Только этого и не хватало...
Она готова была заплакать от беспомощности. Хотела еще раз позвонить, но тут же отдернула руку от трубки, вспомнив, что в любую минуту может звонить Николаев - обещал! - сообщить состояние.
Появилась Людмила в длиннополом цветастом халате с расческой в руке. На ходу она причесывалась. Несмотря на постоянные замечания свекрови о том, что для подобных процедур есть специально отведенные места, она продолжала поступать по-своему, ей доставляло удовольствие ходить по квартире неодетой и причесываться на глазах у всех.
- Который час? - вместо "доброго утра" опросила она.
Елена Петровна была сосредоточена на ожидании звонка, не заметила бестактности Людмилы.
- У нас часы остановились, - проговорила она.
- Очень мило, - бросила взгляд на неподвижный маятник Людмила и выпорхнула в кухню. Скоро появилась снова в гостиной.
- Хотела включить приемник, чтобы время сказали, так он молчит. Вроде вчера работал...
Людмила подошла к телефону и потянулась к нему.
- Не надо, Людочка, - заслонила собой аппарат Елена Петровна. - Я жду звонка.
- Я ж всего на секунду. Только время узнаю.
- Все равно. Не надо. Николаев должен позвонить. Я жду от него звонка.
- Ясно. Тогда другое дело, тогда нам время знать ни к чему
- Скоро десять.
- Спасибо.
Но и на этот раз Елена Петровна словно не замечала присутствия невестки. Какая разница, что она сказала, как она сказала, как при этом посмотрела – сейчас важен был только телефонный звонок от Николаева.
Людмила фыркнула, тряхнула головой и вышла.
Елена Петровна не сводила с аппарата глаз, словно стараясь всем существом своим проникнуть в его глубины, и по хитросплетениям проводов и сопротивлений просочиться туда, где решалась судьба ее и всей семьи, где неведомым образом выносился окончательный приговор времени, надежде, будущему.
Но тут опять появилась невестка и, зычно хохотнув, остановилась в дверях, подперев рукою крутой бок:
- Вы будете смеяться, но и наши часы, оказывается, стоят!
- Да? - рассеянно переспросила Елена Петровна.
- Я же точно помню, что вчера заводила. Интересно, к чему бы это?
- Почему же он не звонит?
- Его тоже можно понять.
- Душно, ты не находишь?
- Беготни и ему хватает. Одних официальных ответов приходится давать, наверное, целую кучу.
- Давление падает, видимо.
- А может быть и вызвали куда-то в другое место.
- Я поеду туда. Нет сил больше ждать.
- Раз обещал, значит позвонит. Вы же знаете, как он папе обязан. Будет стараться. Терпение. Нужно набраться терпения.
- Но уже почти час прошел.
- Но если б у него никаких других дел не было.
- Так же нельзя, он же прекрасно представляет наше состояние. Мы ждём...
- Успокойтесь. Кофе сварить?
- Нет, спасибо.
- У меня тоже что-то голова ватная. Надо кофейку. И почему это радио молчит? Слушайте, а может быть нас вообще уже отключили? - сделала круглые глаза Людмила и прижала ладони к щекам.
- Господи, что же это? - прошептала Елена Петровна, закрывая глаза и откидываясь на спинку кресла.
Алексей, выходя из лифта на четвертом этаже, встретился с Анатолием Сергеевичем Павловым, своим шефом, человеком чрезвычайно высоким и худым, среди сотрудников имеющим подпольное имя Росинант. Тяжелые старомодные очки чудом держались на хрящеватом тонком носу Павлова, постоянно съезжая на кончик, придавая выражению лица вопросительность и недоуменность. Постороннему человеку показалось бы, что этот человек остановился потому, что только что вспомнил об оставленном дома включенном утюге. Но Алексей, знавший шефа много лет, понял, что тот остановился ради него.
- Доброе утро, Анатолий Сергеевич, - склонил голову Алексей и собрался пройти мимо, но Павлов придержал его, протянув руку для пожатия.
- Ну, как дела, Алексей Леонидович? - мелко подергал сухой, жесткой ладонью заведующий кафедрой, глядя сверху вниз на своего сотрудника.
- Нормально, - неуверенно ответил Алексей,
- Это хорошо, - поправил очки Павлов, для чего небрежно бросил руку Алексея. И, как бы вспоминая, что же еще хотел сказать, пожевал своими сморщенными губами и несколько раз моргнул. Алексей смотрел за всеми этими ужимками шефа и не знал, как поступить, идти ему или продолжать стоять рядом. Тот переминался на своих длинных ногах, словно искал ногами что-то. Шел-то он, по всей видимости, на третий этаж. Некуда ему больше идти в такое время, только к руководству. Но вот остановился, раздумывая. А зачем?
- Как там папа? - опросил вдруг.
Алексей на этот раз не успел поймать взгляда Павлова, но тут же почувствовал предательский холодок внутри - с чего бы это шефу интересоваться здоровьем отца? Уж не сообщили ли ему? Ведь никогда раньше не было такого, чтобы первый же вопрос - и об отце. Тем более на людях, в коридоре, прямо возле дверей лифта.
- Спасибо. Анатолий Сергеевич, все нормально, - упавшим голосом ответил Алексей, и во взглядах проходивших мимо сотрудников почудилось ему сочувствие. Он машинально кивнул им в ответ на приветствие.
- Это хорошо, - прошамкал Павлов, - прижимая папку к груди.- Это очень хорошо. Да, и еще вот что, - спохватился он и приобнял Алексея за плечи, легонько подталкивая в сторону своего кабинета, направляя вглубь коридора. - Все хочу вас спросить, да как-то не удается. Вы с Арутюновым-то встречались?
- Нет еще. - ответил Алексей, входя вслед за шефом в его кабинет и думая про себя о том, что Росинант что-то затевает, что-то обязательно готовит, иначе бы в кабинет не позвал.
Арутюнов планировался официальным оппонентом Алексея на защите докторской диссертации, но утвержден еще не был. Знали о его кандидатуре только несколько человек. В основном члены и руководители большого ученого совета. Вопрос о встрече с Арутюновым был достаточно деликатным, так как и Алексей и Павлов знали о взаимоотношениях Арутюнова и отца, которые хоть друзьями не были, но много лет трудились рука об руку и отношения поддерживали хорошие. То есть оба заданные, вопроса - так или иначе сливались к одному, или, точнее, обнажали прямую зависимость одного от другого. Алексей это остро почувствовал. И был ли подвох в этом не случайном соединении тем или нет – решить пока не мог.
- А почему? - ласково спросил Павлов и сел за свой стол.
- То его нет, то мне некогда, - без энтузиазма ответил Алексей, продолжая стоять и чувствуя себя все более и более напряженно. Раздражала манера Росинанта смотреть через очки, закидывая голову назад, и хрустеть при этом длинными костистыми пальцами.
- Да. Не складывается, значит. Что же, может быть это и к лучшему, - раздельно проговорил Павлов, перекладывая на столе бумаги. - Да вы не стойте, в ногах, как грится… Садитесь, Алексей Леонидович, что ж вы так напряжены-то? В самом деле…
Алексей сел на приставленный сбоку стул и почувствовал, как тот шатается под ним. Ножка ли была отломана или просто одна оказалась короче других, но ощущение неустойчивости, неуверенности, зыбкости пронзило и добавило неприятный холодок в сердце. Алексей постарался найти прочное положение, сидел не шевелился, уперев руки в колени и покрывался потом. Павлов рассматривал что-то в бумагах, будто напрочь забыл о присутствии Алексея, сопел и жевал губами. Алексей не выдержал повисшей тягостной паузы и сам вдруг рассказал Анатолию Сергеевичу о случившемся с папой приступе, о звонке, о положении, о том, как хлопочет Николаев, о том, что назначен консилиум и даже о том, что случилось это все в юбилейный день их совместной с мамой жизни.
- Вот такое, значит, получилось совпадение, - закончил он и опустил голову.
- Что ж, будем надеяться, что все обойдется, - по-деловому проговорил Павлов, никак не высказывая своего отношения к услышанному.
Из чего Алексей сделал вывод, что и до этого он все знал. Потому подумал - поступил правильно, что рассказал, поделился заботами. То есть, как бы приобщил его к ситуации, признал соучастие. Но ведь существовала и другая, не менее существенная, сторона, не учитывать которую, несмотря на деликатность, было нельзя, и Алексей хорошо сознавал это. Его положение в институте напрямую никак не было связано о положением отца, но тем не менее все равно подразумевалось влияние, исходящее с той стороны. Да и некоторые намеки проскальзывали в оценках работ Алексея, нечто снисходительно-покровительственное было в улыбках руководителей института, когда звучала фамилия Купреянова. Говорить так впрямую о заболевшем отце - это значит открывать карты, это как бы произносить пароль. В надежде услышать отзыв. Но ведь Павлов сам первый коснулся этой темы, заговорил об этом. А без повода шеф никогда никаких посторонних тем не касался. Следовательно, должно быть и продолжение. Алексей был взволнован и растерян.
«Вот оно. Началось!»
- Будем надеяться, - повторил Росинант бодро и поправил очки. - Да. Алексей Леонидович, все это так, но ведь об Арутюнове. вас я спросил неспроста, - как бы спохватился Павлов. - Дело в том, Алексей Леонидович, что вчера вроде бы решен вопрос о его поездке в Штаты, так что не исключено, что он из нашей игры выбывает...
Алексей поднял глаза на шефа. И снова взгляда его не встретил. В голове было пусто и жарко.
- Так что надо хорошенько обдумать вариант подмены, посоветоваться, - продолжил тем временем Анатолий Сергеевич. - Обсудить, так сказать, кандидатуру... Вы не переживайте, все будет хорошо, - ровно сказал он на прощание. И оставил за Алексеем право решать к чему относилось это, к выбору кандидатуры официального оппонента или к состоянию здоровея отца.
Алексей вышел из кабинета взмокшим. Остановился в коридоре, механически отвечая на приветствия проходящих коллег, никого не замечая и не узнавая. "Это звонок, первый звонок" - билось в мозгу, Алексей теперь отчетливо видел, что не случайно Павлов завел разговор об отце, пригласил в кабинет и сообщил новость об Арутюнове намеренно, сразу же дал понять, что предстоят осложнения. Может быть это даже был намек на задержку защиты.
"Ах, черт возьми, как все не кстати..." - думал Алексей, идя по коридору. "Да, теперь-то уж они подсуетятся всем скопом, найдут причины. И Арутюнов будет отстранен и с публикациями возникнут вопросы, и потянется волокита. Как все не вовремя".
- Привет, - остановил он молодого сотрудника. - Дай закурить, пожалуйста.
- Вы ж не курите. Алексей Леонидович, - удивился тот вполне добродушно и приветливо.
- Надо ж когда-то начинать, - постарался отшутиться Алексей. Руки его дрожали, губы пересохли.
- Будьте любезны,- протянул парень сигареты, - только Минздрав предупреждает совершенно официально,- улыбнулся он и щелкнул зажигалкой,- лучше быть здоровым и богатым, чем курить - здоровью вредить!
- Спасибо,- поблагодарил Алексей.- Это я учту...
Он отошел на лестничную площадку и глубоко затянулся, руки его тряслись, и голова предательски кружилась.
Елена Петровна устало прилегла на диван и закрыла глаза.
- Набери еще раз, пожалуйста,- попросила она невестку тихим голосом.
Людмила села возле телефона и демонстративно, с отрешенным лицом, стала накручивать диск. Когда послышались короткие гудки, она подняла трубку повыше, чтобы и Елена Петровна слышала. Та, не открывая плаз, едва заметно кивнула, не то одобряя не то предлагая продолжать.
- А вы знаете, что я вспомнила? - воскликнула вдруг Людмила.- Когда мы с Алешей поженились, папу тоже положили в больницу!
- Вы тогда в Варну поехали, - отозвалась тихо Елена Петровна.
- Ох, как давно это было! - мечтательно протянула Людмила. - И было ли вообще...
- Давно… Внуки могли бы в школу уже ходить, - проговорила как бы про себя Елена Петровна.
Людмила услышала, сразу изменилась в лице, в глазах сверкнул неприятный, жесткий огонь.
– Что вы хотите этим сказать? - резко спросила она, понимая нелепость своего вопроса и расстраиваясь от этого еще больше.
Ну что могут хотеть сказать, когда напоминают, что за одиннадцать лет супружества ты так и не смогла родить ребенка? Конечно же, только эго и ничего больше. Елена Петровна на вопрос невестки не отвечала, ответ Людмила и сама прекрасно знала.
Да и права, права была Елена Петровна, вот в чем заключалось все дело, вот от чего хотелось прятаться, делать вид, что его нет в природе, не существует. Людмила опустила голову на руки, выждала паузу, потом заговорила спокойнее.
- Вы меня упрекнуть хотите? Но вы же прекрасно знаете, что я... что врачи...
- Люда, ну при чем тут упреки? Что ты опять выдумываешь? Разве я упрекаю? Просто сказала. К слову...
- Да, к слову. Вы уже не первый раз начинаете.
- Хорошо, если ты не хочешь, не будем об этом, - Елена Петровна встала с дивана и подошла к Людмиле. - Да ты и сама со мною согласна теперь, не так ли? Откладывала, откладывала, хотела погулять, А на то и семья, на то и дом, чтобы были дети, чтобы они росли... Чтобы появились внуки... У моих ровесниц внуки уже школу заканчивают. А тут... и у Лёни не складывается. И вы вот... Все кувырком, все не так...
- Я пойду поставлю чайник. - решительно поднялась Людмила, чтобы уйти от разговора, тема которого терзала ее самолюбие, рвала на части. Ну, на самом деле, сколько же можно на каждом шагу напоминать об ее неполноценности!
- Погоди, - остановила ее свекровь, - Раз уж затронули, то ты скажи мне честно, есть надежда? Я знаю, ты была...
Людмила не ответила на вопрос, запахнула халат и вышла. Надежда была, но таким количество сопроводительных "если" она обросла, что все опытные специалисты, к которым обращалась за последний год Людмила, только качали головой: "Да, но..." Еще до встречи с Алексеем, до короткой маминой фразы, решившей исход ухаживаний - "Этого упускать нельзя" - Людмила сделала два аборта. Причем в тайне от родителей при помощи и протекции одной опытной в таких делах подружки. В памяти осталось это малоприятной необходимостью. Не было ни стыда, ни горечи, ни зарока. Только боль и облегчение от сознания, что обошлось, что мама ничего не знает. Нет, и смолоду не была Людмила слишком легкомысленной. Скорее даже напротив, старалась быть очень осмотрительной в любви, осторожной, отказывала даже тогда, когда отказывать самой очень не хотелось. Но женщина зрела в ней быстро и властно, требовала своего. "Быть тебе матерью-героиней!" - сказала подруга, вторично устраивавшая встречу с опытным в таких вопросах специалистом. И проходило-то все гладко и спокойно. Как с гуся вода. Но... Людмила была из категории женщин, как бы специально целенаправленно предположенных для материнства. Может быть, именно поэтому так жестоко и карала природа за нарушение естества? Людмила хотела теперь ребенка, если б кто знал, как хотела! Она жаждала дитя, все ее нутро горело ожиданием радостной тяжести, готово было встретить и вскормить плоть от плоти своей. Она уже готова была даже на искусственное зачатие, на вынашивание. Уже и предварительная договоренность с клиникой существовала. Алексей расстарался, держа, разумеется, планы в тайне от матери. Но была и жесткая реальность противопоказаний анализов. Пока же оставались только вопросы Елены Петровны, отвечать на которые значило царапать по самому больному. Людмила вышла из комнаты.
Елена Петровна стала набирать номер телефона Николаева. Монотонно и покорно жужжал аппарат, диск, чуть похрипывая, возвращался на исходное положение. Раз за разом приходилось повторять одни и те же движения - каждая попытка отзывалась далекими короткими гудками.
- Ну что ж это такое? - в сердцах положила трубку на место Елена Петровна, - почему все время занято?!
Через некоторое время в комнату вернулась Людмила, она очень мягко, танцевальными шагами вплыла в гостиную, прижимая к груди толстую среднего формата книжку. Людмила загадочно улыбалась, глаза ее горели, на щеках выступил румянец. Она обошла вокруг стола, привлекая к себе внимание свекрови, остановилась напротив окна и тоненько захихикала.
- Люда, что с тобой? - удивилась Елена Петровна.
- Со мною книга, источник знаний! - торжественно подняла свою ношу Людмила.
- Господи, как ты можешь...
- Это довольно редкое, сувенирное издание, - перебила ее Людмила. - Уверяю вас, очень содержательная книжка, очень наполненная.
- Мне сейчас не до книг, - сухо проговорила Елена Петровна и потянулась к телефону.
- Напрасно. Мне, например, ее содержание очень нравится, - приблизилась Людмила, - бодрит очень.
Елена Петровна подняла глаза на невестку, странно улыбающуюся, и вновь спросила: - Да что с тобой, Люда? Ты не в себе?
- А может быть наоборот, как раз в себе... Автор этой книги - народ. Хотите почитать?
- Людмила!
- Ну, хотя бы одну страничку? А? По одной страничке прочтем?
Людмила, весело хихикая, подошла к серванту и достала две рюмки, поставила их на столик перед Еленой Петровной. Та, изумленно следила за действиями невестки, не понимая, теряясь в догадках.
- Что это? - спросила она, показывая глазами на рюмки.
- Мы по одной страничке, - заговорщицки прошептала Людмила.- А? Прочтем?
- Да что это происходит-то в конце концов? Что с тобой сегодня?
- Все нормально, - Людмила продемонстрировала свою книгу, открыла крышку, отвинтила пробку и налила из "книги" в рюмки. Затем села рядом и протянула книжку Елене Петровне.
- Вот так книга, - приняла сувенир Елена Петровна и повертела его в руках. - Замечательная.
- Давайте, мама, выпьем. А то уж больно гадко на душе, - взяла рюмку Людмила.
Елена Петровна аккуратно поставила книгу на стол.
- Коньяк? - спросила, подняв после небольшого раздумья рюмку.
Людмила кивнула и одним глотком выпила.
- Ну, что б все было хорошо, - проговорила, как заклинание, Елена Петровна и маленькими глоточками стала отпивать янтарную жидкость.
- Армянский? - спросила спустя еще минуту.
- Кажется, - ответила невестка, привычным движением распахивая книжку и наливая себе еще.
- Вкусно.
- Я ж говорю, замечательное произведение.
- И удобное.
- Еще бы. Народ, он мастак на выдумку.
- И давно ты читаешь подобную литературу? - не удержалась от вопроса Елена Петровна.
- О, тяга к знаниям у меня с самого рождения, - задорно ответила Людмила, под действием выпитого все больше раскрепощаясь и чувствуя себя непринужденно.
Недавнего срыва как не бывало. Она лихо. бравируя, налила еще и ловким движением добавила в рюмку свекрови.- Гуляем ?
- С утра?
- По чуть-чуть, чтоб солнце скорей взошло.
- Ты выпей, а я не буду. Надо звонить.
- Бесполезно.- Может лимончик порезать, посидим красиво, а? - о своем продолжила Людмила, взвешивая рюмку в длинных пальцах. Елена Петровна фыркнула норовисто. У нее на щеках тоже начинали играть пятна румянца. Давно, еще со времен своей медицинской практики, она не пила с утра. Но тут не могла не заметить, что глоток коньяка пришелся очень кстати. Однако и идти на поводу у невестки в столь странном занятии она не собиралась.
- Надо обязательно дозвониться! - решительно потянулась она к аппарату.- Что ты такое говоришь?
- Господи, ну неужели не ясно, если сам он не позвонил, как обещал...
- Не смей так говорить! - попыталась прикрикнуть Елена Петровна, но получился довольно валкий всхлип, потому что замечание Людмилы было абсолютно справедливым. Соглашаться с ним не хотелось, но тем не менее...
- Хорошо, не буду, - миролюбиво отступила Людмила и подала рюмку Елене Петровне. - Так что, я несу лимончик?
*
Записная книжка лет десять назад была привезена отцом из Японии - там ему презентовали ее, как скромное напоминание о приятном визите в клинику города Осака. Отец подарил книжку сыну по какому-то случаю. И теперь она лежала перед Леонидом в очередной раз призванная подсказать направление выхода из создавшегося положения.
Книжка была отличной - в твердой глянцевой обложке с тщательно прошитыми листами очень тонкой и очень белой бумаги. Частично листы были разлинованы и прорезаны латинским алфавитом, специальный отдел предназначался для телефонных номеров. Несмотря на то, что ее постоянно использовали десять лет, она была опрятной, почти новой. И. благодаря дотошным мелким записям, уже не раз выручала Леонида. На страницах этой книжки было очень много адресов, телефонов, просто пометок и записей, которые позволяли нужное вспомнить, держать про запас и то. что лишь может когда-либо пригодиться.- Дядь Сереж, а дядь Сереж, в школу опаздываю. Свези, а? - клянчил Ленька, зная наверняка, что верный водитель не устоит и обязательно прокатит. Впрочем, случалось и такое, что дядя Сережа (это уже когда Ленька в десятый перешел) становился вдруг совершенно неумолимым, и даже сердитым, ни в какую не соглашался. Отказался он и в тот день, когда очень уж надо было Лене покрасоваться перед новенькой, пообещал он ей, что непременно приедет к школе на лимузине отца.
- Вызвали в ЦК, - оправдывался потом, перед девчонкой, но злобу нехорошую затаил на шофера и при первом же удобном случае на даче влил в бак с бензином целую бутылку ацетона. До сих пор не ясно, что там случилось или машина уж больно была надежна, или ацетон оказался ни к черту, но только не было взрыва, копоти, не было испуганного и виноватого дяди Сережи, недоуменно ищущего неисправность. Ничего не было из того, чего хотел добиться и чего ожидал спланировавший и осуществивший пакость мстительный Ленька. Старый водитель как ни в чем не бывало запустил двигатель и укатил преспокойно в город. Дядя Сережа был старше Леонида Петровича, знал его еще с фронта, где был госпитальным шофером под началом того же доктора Купреянова. И за все годы общения повидал со своим командиром и начальником всякое, испытал и соленое и сладкое, но очень ценил в Петровиче, как неизменно уважительно звал "шефа", твердость слова и верность однажды взятому курсу. В последние годы нелегко ему было ездить, возраст сказывался, комиссии одолели и если б не заступничество Купреянова, который не представлял себя в машине с другим водителем, то списали бы конечно много раньше. Но все равно, как бы не тянулся человек, век его определен. Мастеровитый, крепкий водитель-профессионал, дядя Сережа сам написал заявление, сам пришел к Леониду Петровичу и попросил отпустить, после того как по его вине Купреянов опоздал на ответственное мероприятие.
- Все, Петрович, поездили, - сказал он браво. - Хватит.
И Петрович не возражал, не отговаривал, твердо веря, что боевой его соратник точно так же, как и он сам, до того момента, пока не почувствует что больше не может делать то, что нужно, не попросит от ноши освободить, будет тянуть и упираться из последних сил. Значит, настал такой час и для дяди Сережи. Расстались, обнялись, отметили по всей форме, щедрым подаркам рад был старый шофер, потому что знал - от души. И не стесняясь, всплакнул, когда неожиданно через столько лет приехал сам Купреянов, теперь уж такой высоты достигший, что и не думалось никогда, приехал домой к старику поздравить с восьмидесятилетием. Знал, стало быть, что жив, интересовался, значит. Уважение оказывал. Очень растрогался тогда дядя Сережа, не знал даже с чего бы это. А когда Леонид Петрович, тоже уж весь седой и заметно погрузневший, напомнил, сколько километров ими вместе изъезжено, сколько раз они могли бы вокруг земного шара объехать, если б не петляли, да не возвращались, то и запели вдвоем "Ох путь-дорожка, фронтовая»...Славно посидели. В тот же год Веремейко и умер, но Леонид Петрович узнал об этом несколько месяцев спустя, так как сам захворал, отлеживался в санаториях. В той квартирке, где жил дядя Сережа, осталась семья его сына, то есть внучка с мужем и дочерью, так как самого сына тоже уж не было. И если бы Леониду пришло в голову все-таки навестить дядю Сережу, спросить о нем, то встретили его бы, разумеется, недоуменным вопросом:
- А это кто ж таков?
Конечно, можно было бы растолковать, напомнить, найти старые фотографии, где запечатлен бравый водитель в гимнастерке с медалями, а рядом молодой офицер с новеньким орденом. Но как и у кого после всех этих лирических отступлений просить в долг? И какими глазами смотреть? Пошли они...
Леонид перевернул страницу, она оказалась совершенно пустой. На следующей была только одна фамилия Дубов, в памяти никак не отзывающаяся. Дальше значился Зимин Толя и Красненький Женя. Этот вспомнился сразу. Странное лицо было, как и очень странная была фамилия, у этого одноклассника Леонида. Как-то несколько лет назад они встретились случайно в компании. Там еще каламбур родился за столом "Выпьем за Красненькую!" Жена Жени рдела от счастья, не понимая почему все радостно ржут при этом. Женя что-то поделывает с компьютерами в конторе связанной с очень гражданской авиацией. Мается от зарплаты до получки с тремя детьми и тещей в придачу. Больной при том сам и больные дети. Отпадает. На соседней странице были записаны данные родителей бывшей жены. Тесть и теща, телефоны служебные, адрес. Даже название троллейбусной остановки.
А что? - подумал Леонид. - Вполне деловой разговор. Мы ж не чужие, кажется...
Конечно, отвратительно, унизительно и как бы стыдно обращаться к людям, с которыми так ругался и рвал отношения через суд. Тем более обращаться с просьбою обременительной. Но, учитывая безвыходность положения...
Стоп. А почему бы с нею самой не поговорить? – спросил себя Леонид, имея в виду бывшую жену свою. Она-то уж точно поймет. Впрочем, откажет, станет смеяться еще. Она не упустит возможности укусить. Да и связываться с ней - это себе дороже. Нет, отказать.
Моргачевы! - Вот оно! - Именно Моргачевы, - радостно встретил запись телефона родственников Леонид. И сразу же без промедления пошел к телефону. Но возле аппарата остановился, закрыл книжку, сел.
Не то, типичное не то. Ведь это такие полудурки все как на подбор, что даже пообещав молчать, обязательно при случае потом расскажут маме. А именно ее всего менее хотел посвящать в свои неприятности Леонид. И не только потому что доставил их уже Елене Петровне немало, часто вопреки своим желаниям. Просто, когда мать молча смотрит в глаза и сокрушенно качает головой, жалея и печалясь – нет сил выдерживать это, хочется бежать куда-нибудь зарыться с головой в песок, спрятаться.
Мама, мама, ты поймешь и простишь, я знаю. Я обязательно выкарабкаюсь и на этот раз, тебе не придется из-за меня переживать, поверь мне.
Леонид не стал звонить Моргачевьм. Когда он вспомнил глаза матери, горькая волна накатила на него, вызвав сухость во рту и желание напиться.
Как же получилось так, что легко и беззаботно авансируя, Лохвицкий без единого слова упрека или сожаления, постоянно давая взаймы, теперь вдруг потребовал немедленно вернуть всю сумму сразу - набежала круглая тысяча. И срок поставил жесткий - два дня.
- Иначе, мил друг, - как всегда невозмутимо сказал он, - я противу своих правил вести расчет непосредственно с человеком, должен буду обратиться к твоей матушке, благо, что мы знакомы. И я должен буду представить ей тебя в некредитоспособном виде, потребовать, значится, материального удовлетворения. Ты понимаешь, как это будет выглядеть?
Лохвицкий улыбался зло и ядовито, точно зная, что расчет его верен, и что слова эти бьют Леонида в самое больное место. То, что Леонид болезненно самолюбив, Лохвицкий понял сразу же при знакомстве, тогда же почувствовал и то, что эта черта в молодом человеке доминирует. И почему-то принял Леонида под свое покровительство. Он помогал ему материально, он отводил едкие шутки и намеки приятелей, которые бы могли задеть легкоранимое существо, он словно бы оберегал Леонида для своего собственного употребления, конструируя маленькую драму. И вот теперь довольно торжественно обставил очередной этап развития их взаимоотношений: после такой категорической постановки вопроса. Леонид, конечно же, не мог вести себя со своим благодетелем по-прежнему. Возможно, именно этого-то и добивался Лохвицкий. Ему нужен был слом. Так или иначе, но разговор состоялся. Теперь Леониду ничего не оставалось, как изыскивать способ для возвращения драматургу возросшего долга. Как это сделать, Леонид не знал. Он отшвырнул записную книжку в угол, обхватил голову руками и сжался в комок, закрыл глаза, перестал дышать. Так было немного полегче, реальность проваливалась куда-то. удалялась, отступала. и можно было плыть в колышущихся бирюзово-голубых глубинах вдоль яркого кораллового рифа, плыть в тишине и покое среди медуз и водорослей, среди рыб и моллюсков над переливающимся пятнами белым песком. Плыть или лететь. На подводной лодке или на дельтаплане. В тишине и покое. Где нет Лохвицких, нет долгов, нет проблем. Вдали звучала гитара и еще какой-то инструмент, может быть флейта, а может быть и губная гармошка, мелодия была странной, нежной и легкой, словно дуновение ветерка на восходе солнца. Мужской голос был чист и беззащитен. Он пел, как говорил, спокойно и ясно. Откуда он взялся-то здесь? По радио? Или кто-то из соседей включил магнитофон? Звучала, вплетаясь в медленный полет, странная песня с такими словами: «Клен, я вынужден извиниться перед Вами. Прошлой ночью я никак не мог уснуть: буря ревела. Выглянув из окна, я заметил, что Вы шатаетесь, как пьяный орангутанг. И выразил свое мление. Сегодня на ваших голых ветвях блестит желтое солнце. Изредка вы роняете, Клен, последние слезы. Но теперь Вам известно, на что Вы способны. Вы выиграли жесточайшую битву всей вашей жизни. Коршуны кружили над Вами с большим интересом. И отныне я знаю: лишь благодаря Вашей несгибаемой гибкости Вы стоите сегодня утром так прямо. В свете Ваших успехов мне ясно: не пустячное это, видно, дело – подняться среди каменных корпусов до такой высоты, Клен, на которой Буря с Вами вот эдак, - как прошлой ночью... И отныне я знаю, лишь благодаря вашей несгибаемой гибкости Вы стоите сегодня утром так прямо. Так прямо...»
Музыка угасла, удалилась, исчезла, растворилась в окружающем пространстве, будто впитанная стенами, воздухом, тяжелыми рамами картин. Леонид поднял голову и прислушался, было тихо. Он уже начал было радоваться, что мелодия и стихи родились сами по себе в его воображении, что музыка звучала только в нем, сопровождая плавание, что это его была песня. Но тут послышался женский голос, равнодушно объявивший, что была исполнена песня на слова Бертольда Брехта, автор и исполнитель... Имени Леонид не расслышал. Новое столкновение с реальностью опять толкнуло Леонида на подушку. Он закрыл глаза. Но до чего же странные стихи находят люди для исполнения! И до чего же удивительные мысли приходят иногда поэтам! Бертольд, значит, Брехт? Матушка Кураж из Сезуана? Несгибаемая гибкость... Как это красиво. И почему это придумал немец, а не он, не Леонид? Здравствуйте, товарищ. Клен? Клен ты мой опавший, клен заледенелый.
Еще тоскливее и безотраднее сделалось на душе от прозвучавшей песни. Вроде бы она должна была заряжать оптимизмом - клен-то выстоял в буре, остался прямым и гордым, победил все темные сокрушительные силы наперекор всем коршунам и воронью. Но вместе с уплывшей мелодией открылась в сердце болезненно сочащаяся ранка, теплая, ноющая, словно скулящая, уносящая силы. И никак не удавалось эту глубокую перехватывающую дыхание боль унять. Не видел Леонид выхода из создавшегося положения. Он встал и подошел к окну, посмотрел во двор. Столько лет он видел эту картину, казалось, знал ее в мельчайших подробностях и мог представить даже с закрытыми глазами любое время года в этом небольшом дворе, но вот выяснилось, что деревьев он не замечал. Высокие раскидистые клёны густыми шапками крон поднимались до четвертого этажа. Это были старые мощные деревья. Если учесть что в каменной коробке замкнутого двора им рослось не столь привольно, как где-нибудь в лесу или на берегу реки, то за годы жизни своей они, очевидно, добились очень многого. Во всяком случае, выстояли, а значит и быть воспетыми были достойны ничуть не меньше брехтовского товарища клена.
- Вот, значит, почему вы стоите так прямо, так прямо, - попытался пропеть Леонид, подражая услышанному голосу. – Изредка вы роняете, Клён, последние слезы.
Он открыл окно и, уперевшись в широкий подоконник, высунулся наружу.
Ствол ближайшего к окну дерева начинался далеко внизу, в правильном круге, оставленном в асфальте. Когда- то этот круг был огорожен невысоким штакетничком, но со временем он исчез, втоптался в клочок земли, превратился в продолжение тротуара. Второе дерево росло метрах в десяти слева. Начиналось оно из такого же островка в асфальтовом поле двора. Из окна второй ствол не был виден, так как клены переплетались листвой наверху, образуя шатер и закрывая добрую половину пространства. По едва заметно колышущимся листьям, казалось, можно было пройти, так они были густы и надежны.
Вот бы перекинуть мостик с подоконника туда, в крону дерева, пройти по нему над асфальтово-кирпичной пропастью, и спрятаться там, в тишине и зелени листьев, как в гнезде, затаиться и никого не пускать, кроме птиц и музыки. Там, наверное, прохладно и уютно, в ажурном этом доме из листьев и воздуха...
Леонид лег грудью на подоконник, вытянул руку, попытался достать до ближайшей ветки, но не сумел, оставалось каких-то полтора-два метра, расстояние ничтожное, но непреодолимое.
-А может прыгнуть? - усмехнулся Леонид и представил, как широко раскинув руки, он выплывает из окна, взмывает вверх, огибает свободным росчерком небо над двором и заходит на мягкую посадку в крону клёна. Бред!
Леонид повалился на диван, уткнулся лицом в подушку, задержал дыхание. Не видеть, не слышать, не знать, не чувствовать. Стучали гулко в ушах удары сердца. Подводное плавание не возвращалось, сколько он не напрягался, сколько не сжимал глаза. Теперь постоянно лез в голову несгибаемый клен из странной мелодичной песни, и невозможно было от него отвязаться.
Леонид накрыл голову подушкой и застонал сквозь сжатые зубы:
- Не хочу, не хочу, не хочу...
*
Когда Николаеву доложили, что к нему на прием просится Купреянов, он какое-то время был в растерянности. Как же так, как может проситься Купреянов, если он лежит в клинике и идет как раз обсуждение его состояния? Видимо, полное, гладкое лицо Антона Андреевича в эту одну единственную секунду замешательства выдало секретарше родившийся в голове вопрос. Дина мягко наклонилась к уху Николаева и как бы между прочим уточнила:
- Алексей Леонидович Купреянов. Сын.
Дина взяла со стола несколько бумаг с таким видом, будто только за ними и заходила. Антон Андреевич раздумывал недолго. Ему было ясно, что приход сына автоматически избавляет его от неприятной необходимости звонить и объясняться с Еленой Петровной. Можно было, конечно, попросить его подождать, невелик гусь. Подождал бы, потомился бы в приемной потом бы получил необходимую информацию. Но и присутствие его здесь, в кабинете, ничем не могло повредить или помешать. Пусть сидит. Пусть все услышит сам. Таким образом ему самому непосредственно придется пересказывать матери все собственными ушами слышанное. Тем более, что ему, кроме всего прочего, полезно послушать мнения крупных специалистов, они как раз начали высказываться по снимкам, по кардиограммам и результатам общетерапевтического осмотра. Пусть видит, что есть протокол, есть коллегиальное мнение. То есть, что нет личной его, Николаева, инициативы и интерпретации. Это важно.
Антон Андреевич едва заметно кивнул секретарше, позволяя впустить посетителя. Дина вышла с бумагами и дверь за собой деликатно прикрыла. Выдерживая тем самым паузу между сообщением и результатом.
Николаев взял карандаш наизготовку и тихонько стал им постукивать по перекидному календарю, испещренному мелкими, аккуратными записями.
Алексей вошел в кабинет излишне уверенно, всеми силами старался придать лицу обыденное выражение, пытался, что называется, держать себя в руках, но сознавал, что внутренне перенапряжен и сладить с собой не может. Сразу же встретился взглядом с Николаевым и ответил скромным кивком на пригласительный жест его позволяющий занять свободное место у стола. Сел Алексей на одиноко стоящий стул у стены в углу. Опустился на сидение, остро ощущая на себе внимательные взгляды собравшихся. Медленно поставил портфель на пол рядом со стулом. Говоривший в это время Облаков, на какое-то время прервался, мельком взглянул на Николаева, но ничего не уловил в его опущенных глазах, продолжил. Антон Андреевич хорошо знал все, что тут будет сказано. Знали это все присутствующие, потому что много лет были связаны друг с другом профессионально, формально, дружески, и слишком хорошо были информированы о предмете обсуждения. Наверное, и выступления эти все были не нужны, и поиск новых обтекаемых формулировок и повторяющиеся предложения. Можно было бы и без них обойтись, написать диагноз, но соблюдался ритуал, положенный и цементирующий, придающий стройность всему тому, что позволяло жить, двигаться и расширяться целой отрасли, целой прослойке. Так или иначе, вопросы задаются, на них или за них нужно отвечать. Часто отвечать персонально. И от способности принять решение в определенный момент зависит очень многое. Не каждый способен на единственно верные решения. Все живые люди, никто не застрахован от ошибок. Но иногда можно и должно ответственность за принятые решения разделить. Общее мнение, общее решение - это как бы уже объективная истина, тут уж как говорится - ничего не попишешь. И случаются такие общие мнения, выше которых только время, рок, история.
Впрочем, постукивая привычно карандашом по столу, слушая выступающего старого Саца, Николаев не упускал из виду Алексея. Антон Андреевич отметил про себя, что сын мельче и суше отца, невыразительнее, что ли. Видимо, узкой костью пошел в мать. Хотя , если сделать скидку на возраст.
Нет, все равно не хватает чего-то главного, острого, могучего, что всегда привлекает, привлекало в Леониде Петровиче. Масштабный, спокойный, уверенный в себе мужик Купреянов. В любой ситуации сохраняет спокойствие, выдержку, здравый смысл. Эдакий монолит надежности.
Но не мог не отметить Николаев и того факта, что Алексей все-таки приехал, не стал ждать приглашения, как поступили бы на его месте многие, добился приема, прорвался, вошел. Это понравилось Николаеву, он любил людей решительных и хватких. Даже учитывая личную заинтересованность и некоторую двузначность положения - все-таки, как там ни крути, но люди связанные и зависимые, не всякий отважится напирать на свое же начальство, пусть и косвенное. Антон Андреевич оценил молодого человека и решил, если с его назначением на место Купреянова пройдет все гладко, как обещали, обязательно двинуть парня. Был в этом решении и второй план, может быть даже главный для Николаева - таким образом можно будет считать себя освобожденным от висящего много лет морального долга перед Леонидом Петровичем. Сложные, невидимые глазу постороннего, нити сплетались в просторном кабинете. Все собравшиеся и выступающие много лет, некоторые - даже десятков лет - работали в непосредственном контакте с Купреяновым, под его началом, знали его и как человека и как руководителя. Разумеется, у каждого было свое мнение, своя степень причастности к деятельности этого крупного человека. Но вот теперь они собрались без него и обсуждали состояние здоровья какого-то абстрактного гражданина, организм которого перенес тяжелый приступ. Это было непременным, неписанным условием подобных обсуждений. Однако, кто бы взялся судить о той невидимой границе, где смыкаются искренняя и честная позиция профессионала, специалиста в своей области, и услужливая оглядка на иерархию, на возможные непредвиденные обстоятельства?
Алексей, сжав руки перед собой, сидел бледный, глаз не поднимал, слушать старался каждое слово. Николаев, тихо ухмыльнувшись, чувствуя завершение официальной части, перевернул карандаш, нашел на странице блокнота запись о том, что обещал позвонить Елене Петровне, и аккуратно вычеркнул ее. Мол, выполнено. То, что он найдет способ не разговаривать и с Алексеем после консилиума, было решено. Карандаш поставил жирный восклицательный знак рядом со следующей записью: "18-оо, вторник, С. Н."
*
Встреча была назначена в "Улитке". Леонид долго терзался сомнениями, идти или не идти туда. Идти очень не хотелось, было ясно, что предстоящий разговор ничего приятного не сулил. Но не пойти, значит полностью зачеркнуть себя унижением, ведь сразу не отказался.
- Постараюсь, - ответил Леонид на приглашение.
- Да уж, это в твоих интересах, - вместо прощания усмехнулся Лохвицкий, давая понять, что ничего другого от собеседника и не ждал.
Будут новые словесные потоки, будет напряженное молчание, будет разговор ни о чем, и в этот раз Леонид ничего Лохвицкому не скажет из того, что много раз уже говорил мысленно, из того, что всплывало в нем всякий раз, когда тот походя, унижал его напоминанием о долге или поручением какого-нибудь пустого дела, зная, что Леонид не откажет. Идти надо. Но бот кто б растолковал, почему? Отчего б не сказаться, к примеру, больным? Или просто "забыть"?
Рассуждения о чести, о принципах, о порядочности и прочих высоких материях в данном случае были излишни, тут совсем другие задействованы механизмы. Впрочем. Леонид старался себя уверить, что именно принципы не позволяют ему опуститься до обмана в общении с таким человеком, как Лохвицкий. То есть в этом он намеренно как бы возвышал себя над ним, получая сомнительное удовлетворение от заочной победы. В остальном ему пока приходилось терпеть. "Пока" следовало бы подчеркнуть - пока не найдет достойный выход из создавшегося положения.
Леонид пошел на встречу, малодушно надеясь, что, может быть у того что-нибудь не сложится, и он не явится... О том, что его приятель в это время уже был в кафе и сидел за столиком не один, а рядом с привлекательной девушкой, зеленоглазой и коротко стриженой Леонид не знал.
А говорил Лохвицкий, улыбаясь, как всегда многозначительно, именно о Леониде, и говорил так, словно надеялся, что Леонид спрятался где-то неподалеку, притаился хотя бы и за стойкой бара, подслушивает; говорил расчетливо.
- Пойми, красавица, мне, человеку всего в жизни добившемуся вот этими самыми руками, - он вытянул перед собой и показал девушке узкие с розовыми аккуратными ногтями кисти, шевеля чуть заметно палъцами. Видимо, Лохвицкому демонстрировать свои конечности нравилось ничуть не меньше, чем слушать самого себя. Он словно бы залюбовался плавным движением рук, на какое-то время замолчал. Потом вздохнул и продолжил. - Мне претят всякого рода маменькины сынки и папенькины племянники, белоручки, мягкотелые субъекты, которые липнут к ногам и рукам уверенно шагающих вверх более сильных личностей, и тем самым тоже продвигаются. Но они только мешают. Я тебе больше скажу - они разлагают наше здоровое в принципе общество, в котором каждый может добиться всего по своим способностям. Они подрывают его изнутри тем, что привыкли, или приучены жить на всем готовом. Тут не вина их, тут беда. Когда зверя кормят, какой ему смысл выходить в тайгу на охоту? Когти притупились, взгляд померк - живет на всем готовом. Не позаботятся о нем. не покормят, погибнет, слова не скажет. И потомство производит полностью лишенное естественных охотничьих признаков - потребителей в чистом виде. Отдачи от таких общество ждать не может. Это, если хочешь, напрасно потраченная жизненная энергия. шлак. Несамостоятельность - порок поколения. Это ты сама увидишь...
Девушка сидела молча, слушала обличительную речь рассеянно. Отпивала изредка из высокого бокала. По лицу ее нельзя было определить, как она относится к тому. что слышит, да и слышит ли вообще. Отстраненная, независимая сидела она. улыбаясь иногда чему-то своему, покачивая маленькой ножкой. Лохвицкому эти качества в ней очень нравились. Вернее подходили для задуманного, соответствовали образу. Зная, что всегда может завладеть ее вниманием, он продолжал спокойно, не обращая внимания на отрешенность слушательницы:
- Мне важно, чтобы ты была на его стороне, чтобы ты оценила его героические качества, стала союзницей. Я драматург подлинный, и потому драм не пишу. Я их создаю в жизни. Нет в творчестве высшего наслаждения - быть автором, режиссером и участником совершаемых драм одновременно. Умело конструируя ситуации, подвигать героев к тем именно поступкам, на которые сами они. может быть, никогда бы в жизни не отважились, не ощутили бы себя героями...
Лохвицкий упивался своим красноречием, глаза его под темными стеклами очков, порой закатывались от удовольствия. Он непременно велел бы все свои высказывания записывать в назидание потомкам, издавать в виде листовок или брошюр и принудительно распространять среди населения как учебники глубокомыслия, мудрости, образности и поэтичности. Так ему самому нравилось все, что он произносил, каким голосом вещал.
- Вот у того артиста, что явится сейчас сюда. Кстати, я бы на его месте ни за что бы не пришел, а вот он придет, будет бычиться, сопротивляться, грубить, но никуда не денется, потому что у каждого в этом мире своя роль. Потому что слишком глубоко заглотил крючок, и теперь уж, куда поведут... Да, так вот у него очень болен отец. В тени отца он вырос, тенью питается до сих пор. И это обостряет ситуацию, подогревает интригу. Ах, как было бы здорово, если бы папенька сейчас умер! Льдина откололась, оказалась на чистой воде.
Лохвицкий сказал это мечтательно и сладострастно, потирая руки от предвкушения. Девушка пристально посмотрела на него. Глаза ее еще больше сузились.
- Ты что? - вырвалось у нее. - Разве можно так говорить?
- Милая моя, говорить можно все! - весело ответил Лохвицкий. - В том и прелесть подлинной драматургии.
- Чтоб у тебя язык отсох от таких прелестей! – проговорила девушка совершенно серьезно и опустила глаза. - Желать смерти другому может только...
- Я тебя обожаю, - любовался своей собеседницей драматург,- этот блеск раскосых глаз, словно ятагана взмах, этот жемчугов оскал, будто звезды в небесах... Кстати, экспромт. Цени – тебе посвящается вдохновенное…
- Оно и видно.
- Слушай, ну что ты огрызаешься? Поверь, субъект того не стоит. Расслабься, постарайсябыть милой. Посмеемся маленько и разойдемся, как условились.
Девушка откинулась на спинку стула и ничего не сказала.
Лохвицкий воспринял это, как позволение продолжить свой устный трактат. Он мог говорить часами по любому поводу, лишь бы был слушатель, пусть даже и в единственном числе. Логофибией он не страдал. Да, если бы Леонид пришел в "Улитку" двадцатью минутами раньше и сумел незамеченным оказаться рядом с этим столиком, он бы услышал о себе много интересного. Как бы он отнесся к этому, трудно сказать, человек проницательный, он догадывался, что Лохвицкий может говорить за глаза. Только фактом было то, что шел он к кафе пешком, растягивая время, и даже словно бы случайно выбирая путь переулками - подлиннее. Смешно и глупо. Понимал нелепость ситуации Леонид, но ничего не мог с собой сделать. Шагал. Как назло почти на каждом углу попадались часы, которые показывали, что остается до намеченного часа еще много времени, что опоздать ему не удастся, и что припасенная фраза "извини, Юра, задержали неотложные дела", не пригодится. "И зачем я иду?- в который раз спрашивал себя он и останавливался. Но вот и "Улитка". Леонид вошел в зал и сразу же увидел Лохвицкого, узнал его по сияющей лысине и узкой спине, криво склонившейся над столом, подошел, отодвинул свободный стул.
- Извините, я не опоздал? - сказал он как можно спокойнее и тут же про себя отметил, что опять извиняется, хотя много раз давал себе слово избегать этого штампа, ведь он ни в чем не виновен.
- Здравствуйте.
- О, вот и он, наш долгожданный почтальон! – воскликнул Юра, широко разводя руки и вставая, изображая такую радость, словно лет десять они братья единокровные, не виделись. - Садись, садись, старина.
Лохвицкий дождался, пока Леонид уселся, и только после этого, по-прежнему широко улыбаясь, проговорил, показывая на него театральным жестом:
- Рекомендую. Леонидас. Oдин из самых способных моих учеников. Приступает к созданию собственной драмы, которая, я уверен, будет гениальной. А это, - он повернулся к девушке и изогнулся весь в дурашливом поклоне, - новый этап моего творчества. Надеюсь, не последний. Его имя - Инга.
Лохвицкий сел и, не останавливаясь, в очередном приступе интенмперии стал рассказывать разные истории, где разумеется, главным героем был он, где вокруг вращались известные люди, толпы популярных фамилий: и на премьере в доме кино он здоровается со всеми за руку, обнимается, и на вернисаже армянских портретистов, и на съезде театральных деятелей, и на турнире с канадскими профессиональными хоккеистами. Слова лились непрерываемым потоком, цепляясь одно за другое, свивались в толстые клубки и из-под каждого из них сквозило напоминанием, подчеркиванием словно бы невзначай, - что именно вокруг Лохвицкого кипит жизнь, именно он в центре магнитных бурь, он пуп, одним словом, вселенной. Леонид не слушал словесный поток драматурга. Как увидел он в момент представления глаза девушки напротив, так и не мог оторваться от них. И Инга смотрела ему прямо в глаза, не отводила взгляда. И не было в ее изумрудном взоре ни иронии, ни насмешки, ни стеклянного равнодушия, только внимание и печаль.
В сознании своем Леонид продолжал отмечать детали и нюансы, как бы со стороны подглядывая за происходящим - он так старался делать постоянно, будучи уверенным, что знание подробностей такого плана обязательно пригодится ему в его будущей работе. В тайных замыслах он уже вынашивал роман из городской жизни, насильно готовил себя к нему. И общение с Лохвицким оправдывал, как необходимую издержку при сборе материала. Впрочем, в каких только эмпиреях не витал временами Леонид... Он отметил, что Лохвицкий рекомендовал его Инге, как своего ученика. Казалось бы, мелочь, игра слов, пустяк, но как точно сразу определено положение, подчинение, взгляд сверху как изображен! И это давалось Юрию без малейших усилий, рождалось тут же, по ходу, само собой, было для его формы общения с людьми естественным. И умение рассказывать о выставке так, что будто бы все там присутствующие недоуменно взирали на полотна, не зная что сказать, до тех пор, пока не пришел Он, пока не раскрыл всем глаза на истинный смысл произведений - это же тоже надо уметь. Но почему так изголялся Лохвицкий, зачем этот фонтан слов? За неполный год общения с драматургом. Леонид заметил, что особенно словообильным он бывает в незнакомой компании и с новыми женщинами. Из чего сделал вывод, что причина – Инга. Это для нее вся затея, для ее удивительных глаз. И не мог не заметить Леонид, что этот факт ему приятен. Потому что он вдруг почувствовал в Инге союзника. Нет, не так, он скорее ощутил то, что она не заодно с Лохвицким, не с ним, не его. И тут же приписал это как свою собственную победу. Какую победу? Над кем? - это не важно... Лохвицкий, разливая шампанское, витийствовал уже о том, что всего более по душе ему артемовский Брют, поскольку именно этот сорт нашего вина ближе всех стоит к французским натуральным шампанским из Шампани.
- Ну что ж, юные мои друзья, я предлагаю выпить за тех, кто в море! (Пошляк, - подумал Леонид, сейчас начнет про горизонт) Те романтические души, что завидуют кораблям, скрывающимся за горизонтом. (Леонид усмехнулся, и это заметил Юра, виду конечно же не показал) не знают о поджидающих каждое судно бурях, о рифах, таящих смерть, о муках безветрия и безверия. В этом залог их счастья. За вас, друзья мои, плывущие в жизненном море, - неожиданно закончил Лохвицкий и разом осушил свой бокал.
К нему подошел и склонился, прошептал что-то на ухо официант. Лохвицкий частенько сиживал в "Улитке", здесь его знали. Драматург кивнул и встал:
- Тысячу извинений, голуби мои. На секунду удалюсь. Инга, если что, кричи!
Он ушел своей вялой походкой за официантом. Девушка подняла бокал и приблизила его к Леониду. Тот поднял свой. Чокнулись. Молча, глядя друг другу в глаза, выпили по глоточку.
- У тебя правда болен отец? - спросила Инга.
Леонид сразу насторожился.
- А что? - не слишком дружелюбно переспросил он, чувствуя здесь новый подвох Лохвицкого.
- Просто он, - Инга кивнула в сторону ушедшего драматурга, - сказал недавно, что было бы хорошо, если бы твой отец умер.
- С него станется, - согласился Леонид. - Вполне верю.
- Но разве можно так говорить? Это ж грех какой!
- Ты же видишь, для него ничего невозможного нет. Язык без костей... (Слишком мягко, - тут же отметил про себя Леонид, - опять не удалось подняться над стереотипом, банальная фраза).
- А кто твой отец? Почему он желает ему смерти? - после некоторого молчания спросила Инга.
- Мой отец старый человек. Да он его и не знает. А смерти желает для красного словца... Как это говорится? - ради красного словца не пожалеет и отца... (Боже, глупость какая! И куда это меня заносит!)
- Не понимаю, - сокрушенно покачала головой Инга. - Бред!
- Инга, можно тебя спросить?
- Спрашивай.
- Почему ты с ним? - решительно произнес Леонид, сам удивляясь своей смелости.
- Не понимаю, что именно тебя интересует?
- Мне интересно, почему ты оказалась рядом с этим человеком? Не с кем-то другим, моложе, красивее, достойнее а именно с этим лысым очкариком, здесь... Неужели ты не чувствуешь, что не должна быть с ним, что это какой-то парадоксальный парадокс? Что ты...
- А с кем же? - странно улыбнулась Инга. - С тобой?
- Я не о том, - слишком поспешно ответил Леонид, а в голове звучало: "Да! Да! Да, черт возьми, со мной!"
- А о чем?
- Не знаю, как это выразить точнее... Одна моя знакомая, вернее просто бывшая жена, часто говаривала - на фига козе баян?!
- На этот прямой вопрос один мой знакомый отвечал так, - Инга сделала потешно-серьезную мордочку,- На фига козе баян? - Фигачить фуги Баха!
Инга радостно засмеялась и даже захлопала в ладоши. Открытый в улыбке рот сверкал удивительно ровными выпуклыми белыми зубами. Леонид с трудом отвел взгляд от влажно алеющего рта девушки.
- Это я - коза, - сквозь смех пароговорила она. - Я даже могу выговорить хорошо темперированный клавир... Спасибо...
Леонид тоже засмеялся.
- Нет, ты баян, - сказал он.- Или, точнее, фуга Баха...
- А кто же тогда коза?
- Получается уже не коза, а козел...
- Но главное, что смысл понятен, - перестала смеяться Инга и серьезно спросила. - Зачем ты пришел?
- Не понял? - опять насторожился Леонид.
- Зачем ты здесь?- повторила девушка.
- Надо.
- Не надо, - твердо сказала она. (Сам знаю, подумал Леонид).
- А как бы я тебя иначе встретил? - спросил он вслух.
- Но он замышляет что-то недоброе, - взволнованно проговорила Инга. - Он тебя не любит.
- Он никого не любит. Кроме себя. Но здесь пользуется взаимностью. (А это ничего получилось, надо бы запомнить.)
- Я уйду, - вдруг встала Инга. - Вы все больные.
- Подожди, - взял ее за руку Леонид, остановил. Затем быстро написал на салфетке свой телефон и адрес, протянул ей. - Буду ждать.
Инга взяла бумажку, улыбнулась и вышла, не попрощавшись, оставив после себя смутный вихрь тонкого аромата духов и изумрудного блеска.
Леонид был потрясен скоростью развития их диалога, многозначностью его, и еще тем, как легко им было понимать друг друга, как при этом мало нужно было слов. И ему понравилось, а это случалось очень редко, - как он вел себя, как держался и что говорил, как, смотрел, как вручал записку. Еще и еще раз вспоминая отдельные куски только что случившегося разговора, он не находил ничего такого, что необходимо было бы поправить, изменить, отредактировать, улучшить. Все, по его мнению, случилось именно так, как и должно было случиться.
То есть то дивное ощущение, которое испытал он сразу же как вошел и встретился с узкими зелеными глазами девушки, родилось неспроста, оно было знаком, предвестием, знамением, если хотите.
Забавное свойство инфантильной душ Леонида заключалось в том, что отдаваясь на волю сиюминутному влечению - это может быть что угодно, что поглощает его в момент, - он забывал напрочь о вещах более серьезных, значительных, важных, ради которых, может быть стоило бы пренебречь порой деталями!. Забывал так, что потом они отзывались много серьезнее, непоправимее.
Еще одной характерной чертою была в Леониде способность легко забывать ушедшее. Он умел не жалеть о потерянном и смотреть вперед всегда с надеждой, даже когда впереди ничего конкретного и не виделось. В данном случае под впечатлением от знакомства с Ингой, стремительного и небывалого, Леонид пришел в радостное расположение духа, напрочь забыв, с чем пришел в "Улитку", какие проблемы еще недавно терзали его, давили. Он восторженно смотрел по сторонам и наслаждался, маленькими глоточками отпивая шампанское.
- А где же барышня? - услышал Леонид голос Лохвицкого. Он даже не заметил, как тот подошел и остановился возле столика.
- Имеет право девушка выйти на минутку, - объяснил, улыбаясь, Леонид. - Без привычки трудно вынести твое красноречие, - не упустил он возможности уколоть драматурга.
Лохвицкий сел на стул, пристально посмотрел на Леонида, поставив голову на свои изящные кулачки. Изменения, произошедшие с парнем, не могли ускользнуть от внимательного взгляда.
- Пытаетесь витийствовать, сударь, - протянул он лениво.
- Учусь у вас, - в тон ему ответил Леонид. – Учитель.
- И все-таки, где она? - постарался не замечать вызывающих интонаций Лохвицкий.
- Сказала, на минутку, - просто солгал Леонид, с мстительным удовольствием глядя прямо в глаза Юрию. - Кстати, кто такая? Вроде раньше я ее не видел...
- О! - округлил глаза Лохвицкий, - это, батенька мой, дочь степей, брошенная на завоевание столицы и мира...
- Есть чем завоевывать, - поддержал Леонид.
- И главное - есть кого! - попытался вернуть инициативу в свои руки драматург, но Леонид вдруг решительно изменил тему и проговорил серьёзно:
- Вот что, старина, деньги я тебе обязательно верну, но не завтра, а послезавтра в двенадцать часов дня. Понял? Это я и пришел тебе сообщить. Так что, будь здоров! Леонид достал из кармана единственную десятку, небрежно бросил её на столик, расплачиваясь за вино, и вышел, не давая Лохвицкому времени для ответа. Приятно было унести с собой последнее олово и представлять, как скрипит драматург своими вставными зубами от злости, как сжимает в ярости свои узкие ладошки в кулаки и как честит его последними словами. Леонид был доволен, он сделал достойный ход. Остановившись посреди улицы, он вдруг рассмеялся радостно и прокричал во весь голос, пугая редких прохожих:
- А на фига козе баян!
*
Елена Петровна сидела, поджав ноги и обхватив себя руками, наблюдала за сноровистыми действиями невестки. Людмила воодушевленно сооружала бутерброды - на поджаренные ломтики белого хлеба выкладывала кружочки лимона, маслины, золотистые шпроты.
- Эх, еще бы по листику петрушечки, - мечтательно вздохнула она, словно художник, отступив на шаг от мольберта, осматривая дело рук своих, любуясь им. Получалось, действительно, живописно и аппетитно. Но Людмиле нравилось быть неудовлетворенной своим творением и, наполнив рюмки, она небрежно махнула рукой. - Ладно, и так сойдёт. Будем считать приём не высшего, а первого разряда. Ну, что, какие будут по этому поводу предложения, дополнения, пожелания?- обратилась она к свекрови.
Та смотрела куда-то мимо неё, или сквозь, и вопроса, казалось, просто не слышала.
- Ты знаешь, Люда, я как представлю, что будет, если он сейчас умрет, как подумаю об этом, у меня просто все стынет внутри.
- А вы не думайте, и все! - пододвинула ей тарелку с бутербродами невестка, - подкрепитесь, согрейтесь.
Рюмку наполненную Людмила тоже предусмотрительно подвинула.
- Как это не думать? - переспросила Елена Петровна. – Оно же само в голове постоянно, все время перед глазами. Тут уж хочешь, не хочешь...
- Ну вот это - нет! - категорически взмахнула руками Людмила. – Человек должен быть выше любых обстоятельств.
- Так же не бывает!
- Еще как бывает!
- Но...
- Все очень даже просто: надо делать вид, что всего того, что вас печалит, тревожит, беспокоит, волнует – всего этого не существует. - Людмила села на кресло в позу "лотос", выпрямила спину и закрыла глаза, словно иллюстрируя свои слова. - Этого нет в природе. И все! Надо по системе аутотренинга нацеливать себя на мысли приятные, возвышенные, чистые, манящие...
Елена Петровна, постаралась поддаться советам Людмилы, даже глаза закрыла. Но тут же всплеснула ладошками и мотнула головой:
- Нет, я так не умею.
- Все образуется! – растяжно, гипнотизируя, стала вещать Людмила. - Все в ваших силах. Сосредоточтесь на приятном. Не ду-майте, не ду-май-те, дышите глубже.
- Люда, я так не могу...
Людмила расслабилась, открыла глаза и взяла рюмку.
- Не могу, не могу... Да вы вообще к жизни относитесь, надо вам сказать, как-то очень странно... Я вот уже много лет за вами наблюдаю, и не перестаю удивляться... Давайте-ка еще по одной страничке! Тем более, что там и осталось-то всего ничего. Да?! - Людмила выждала, пока рюмку поднимет и свекровь, затем лихо выпила свою дозу и с хрустом закусила созданием своим живописным - бутербродом. - Ну как у нас стол? Просто изысканный закусончик! - отметила она при этом, облизывая пальцы и второй рукой придерживая лимонный кружок. – Вот, хорошо пошла! Да, так вот разве так надо жить при ваших-то возможностях? Ух, я бы на вашем месте...
- Это интересно, научи, сделай одолжение, как же нужно жить, - чувствуя необычайный прилив легкости попросила Елена Петровна.
- Это запросто! - взялась за второй бутерброд Людмила. – Жизнь, она, как известно, штука простая. И в ней прав всегда тот, кто сверху. Поэтому и надо пользоваться положением. Жить надо просто - есть возможность, бери!
- Что брать? - не поняла Елена Петровна.- Все! От жизни надо брать максимум. И тот, кто это делать умеет, становится по-настоящему счастливым человеком.
- Да?
- Да!
- Так ты знаешь, как быть счастливой?
- Конечно!
- Скажи еще, что смысл жизни открыт тебе.
- Это все элементарно, мама! Поймите, ваша скромность, ваши эти принципы, ваше старозаветное отношение к людям... Кому все это нужно? Кто так живет теперь? Какие-то смешные старомодные понятия! Мишура... Жизнь что диктует? - кто больше ухватил, тот и прав! Верно? Жить нужно весело, красиво, шумно. А не так, как вы, чтобы даже на собственный юбилей никого не пригласить…
Елена Петровна опустила глаза.
- Но ты же знаешь, что папа не любит компаний, шума...
- Вот об этом я и говорю. Работа, дом, дом-работа. Сплошные будни, и больше ничего!
- А я, признаться, и не знала, что ты так любишь веселиться. Все эти десять лет незаметно было...
- Ого! - совсем уже не контролировала течение беседы Людмила. - Если бы я здесь позволяла себе все, что люблю, представляю, что б это за жизнь пошла... Вас бы кондрашка хватила...
- Ты хочешь сказать, что мы сломали тебе жизнь? – спросила Елена Петровна просто, глядя себе на руки.
Людмила, кажется, сообразила, что переборщила, рассмеялась звонко.
- Ну что вы! Это ж я так пошутила! В шутку я...
- Все равно, наверное, лучше б вам жить отдельно, - вслух размышляла Елена Петровна. - Мы бы, старики, вас не так стесняли своими старомодными привычками и привязанностями, замшелыми понятиями... Надо было вовремя разменять квартиру.
- Отдельно?! - воскликнула Людмила саркастически. – Легко сказать, - она хлопнула себя по бедру. - А эту квартиру кому? Дяде? Разве у нас когда-нибудь такая будет? Жить в блочной лачуге на пятнадцатом этаже... Извините, но лучше уж здесь помучаться, подождать...
- Чего подождать?
- Да не слушайте вы меня, это я так, к слову...
Людмила засуетилась, потянулась к книге, подняла ее.
- А хорошая книга, правда? Хорошо сидим!
- Да уж!
- И главное, содержательная! - встрясла "книгу" Людмила, услышала негромкое булькание.- Давайте еще по одной!
- Нет, спасибо, Людочка, я больше не хочу, - решительно отказала Елена Петровна.
- Еще по бутербродику, - продолжала невестка.
- Нет, достаточно. Мы с тобой и так очень хорошо пообщались. Полезная вещь - книга, видишь, раньше мы с тобой как-то не находили времени побеседовать столь откровенно... О жизни.
- Да, - сказала неуверенно Людмила. Она почувствовала перелом в беседе, поняла свой промах, но изменить уже ничего было нельзя. Поэтому она предложила, успев все-таки налить в обе рюмки остатки коньяка. - Давайте я еще покручу, может удастся дозвониться!
- Я сейчас сама туда поеду! - решительно встала Елена Петровна.
В этот момент послышался звук открываемой двери. Людмила сразу среагировала - подхватила "книгу", рюмки, тарелочку, отправилась в кухню. Елена Петровна вышла в прихожую.
Вернулся Алексей. Потный, со сбившимся набок галстуком, вошел он в гостиную, обгоняя Елену Петровну. Та семенила следом, стараясь заглянуть в глаза сыну:
- Ну куда же ты? Ну, что, Леша, говори?!
- Был! - бросил портфель на диван Алексей, сдернул галстук и сел, вытягивая ноги.
Елена Петровна остановилась рядом, вся в ожидании.
- Ну же? - подтолкнула она сына.
- А где Люда? - спросил тот.
- Дома, где ж ей быть. Ты говори, что?
- Решение консилиума таково, - начал размеренно Алексей, но мать прервала.
- Погоди, скажи. Всележский был?
- Был!
- Извини, продолжай, пожалуйста.
- Я бы выпил чего-нибудь холодного.
- Сейчас. Людочка! - прокричала Елена Петровна в направлении кухни. - Захвати чего-нибудь прохладительного. Леша просит.
Людмила ответила невнятно из кухни.
- Сейчас, - заверила сына Елена Петровна, и села с ним рядом. - Ну?- она взяла его руку. Он высвободился, встал.
- Мама, решение консилиума таково... Собрался там, надо сказать, полный кворум. Облаков был, Ганюшин, Всележский, Николаев разумеется, и даже Саца пригласили. Все, короче, съехались, черт бы их побрал!
Елена Петровна прижала руки к сердцу.
- Нет! Лешенька, нет! - выдохнула она.
- Да, мама, да, - сказал глухо Алексей. - Они там все явно перепуганы. Да и их можно понять... Николаев так вообще стерся, ни слова от него не слышал. Конкретно никто ничего не говорит. Все боятся ответственности. Короче, решение таково - операцию отложить, поскольку организм, по их мнению, не выдержит, в виду застарелого диабета... И главное - они говорят, что аппарат подключить не могут, ткани изношены, просто не к чему... Одним словом - отложить на неопределенное время, и наблюдать за течением...
Алексей, ходил, рассказывал, жестикулировал, переживая заново все те часы, что он провел в кабинете Николаева, выплескивая накопившееся, не думая о том, какое впечатление рассказ произведет на мать. А надо бы подумать. Елена Петровна побледнела, затихла на диване и даже глаза закрыла.
- Мамочка, что с тобой? - наклонился к ней сын.
- Так может быть это и к лучшему? - открыла глаза Елена Петровна. - Все-таки без операции.
- Какой там к, лучшему?! Ему хуже! Меня, правда, не пустили, но я же понял... И с каждым днем теперь надо ждать неизвестно чего. Потому-то они и не хотят никаких мер предпринимать, что ничего не ясно. - Алексей стоял на коленях перед матерью и держал ее руки в своих. - Потому-то они и перепуганы все. Я по отдельным намекам понял, что все прогнозы склоняются только в одну сторону... Да ты и сама помнишь, как было в последний раз.
- Да, - проговорила тихо Елена Петровна, и поцеловала сына в голову. -Да, в прошлый раз Николаев сказал, что только чудо может помочь.
- В том-то и дело,- опять встал Алексей. - Понимаешь, они своим решением прикрываются – мол, сделали все что могли!
- А ты что предлагаешь?
- Мама!
- Хорошо, что еще, конкретно, они рекомендуют?
- Ждать.
- И все?
- Да.
- Понятно.
- Что тебе понятно? Что они просто махнули рукой?
- Леша, ты слишком взволнован, чтобы быть объективным.
- А я не хочу быть объективным. Если бы ты знала, как сегодня Павлов намекал мне на внезапные изменения в ситуации с Арутюновым... Они же все только и ждали этого, ты это понимаешь или нет? Они же теперь съедят меня и глазом не моргнут.
- Не кричи, пожалуйста. Криком ничего не изменишь, - постаралась образумить сына Елена Петровна.
- А где Люда? - спросил он, подняв галстук и бросив его на стул.
- Здесь, - ответила Елена Петровна. - Что будем делать? - добавила обреченно.
- Не знаю, - сел Алексей. - Я ехал домой, думал, может быть к Григорию Владимировичу обратиться?
Елена Петровна посмотрела на сына внимательно, затем снова опустила глаза. Он ей почему-то сейчас показался очень похожим на Людмилу. Раньше этого не замечала, а теперь вот после содержательного "чтения" с невесткой - и интонации, и манера двигаться, и напористая нервозность, и даже то, как сидел он, склонившись на стуле - очень живо соединились с образом невестки.
- Исключено, - сказала она тихо. Почувствовала, как сын заерзал на стуле в поисках возражений. - Лешенька, не забывай, что и его самого Всележский лечит.
- Да я этого не забываю. Я не о том. Я имел в виду – может быть попробовать не у нас... В Швеции есть аппаратура…
- Леша, ты же знаешь папу...
- Знаю, знаю! Я, черт возьми, всех знаю! - вскочил Алексей со стула и стал опять расхаживать по гостиной. - Я знаю даже то, что они все сидят там и только и делают, что ждут удобного момента, чтобы меня подтолкнуть в яму.
- О чем ты, сын? Какой удобный момент?
- Мама, милая мамочка! Рушится все, ты понимаешь это или нет? Все летит к черту на рога...
- Успокойся.
- Не хочу я успокаиваться. Надо что-то делать. Не то...
- Разве криком поможешь?
- А чем? Чем? Чем помочь? Ты знаешь? Что? Если знаешь, скажи.
- Нет, я не знаю, - тихо проговорила Елена Петровна.
Она поняла еще и то, чего сначала никак не могла уловить, а может быть и просто не допускала подобной мысли, хотя вроде бы и знала своего сына отлично. Ей вдруг открылось в причинах поведения и истерики Алексея нечто важное, роднившее его с Моргачевыми - ей стало очевидным - он переживал и нервничал больше по причине грозящих ему лично неприятностей и перемен в случае смерти отца; непосредственно же здоровье, состояние того было на втором или даже на третьем плане. Это открытие больно сдавило сердце матери. Она не осуждала сына, она и не выскажет ему своего этого наблюдения никогда, но безвозвратным холодом отчуждения повеяло на нее от первенца, она поняла насколько одинока в своей тревоге за мужа, за его здоровье, она поняла, что если случится самое страшное, жить вместе с Алексеем она уже не сможет.
- Все образуется, - сказала она неуверенно. - Надо подождать.
- И ты - ждать! - вскричал Алексей. - Те маразматики пальцем о палец боятся ударить, предлагают ждать. И ты теперь туда же. А я не верю, понимаешь ты, не верю, что нельзя ничего сделать. Должен, должен быть какой-то выход... Ах, как это все не вовремя, ах как не кстати... Господи, за что?!
В дверях появилась Людмила, остановилась в живописной позе, прислонясь к косяку. Высоко подняв голову, она странно улыбалась, словно хотела сообщить что-то очень смешное.
- Знаете анекдот о семейном подряде в нетрадиционной медицине? - сквозь смех спросила она. - Жена готовит лапшу, а муж ее пациентам на уши вешает.
Людмила, не договорив до конца, уже начала смеяться, ее так радовала картина нарисованная воображением, она просто заливалась от смеха, ничуть не утруждая себя задуматься о несоответствии поведения и ситуации. Ей было весело, и трава не расти!
Алексей смотрел на нее, ничего не понимая, он просто не мог поверить своим глазам. Елена Петровна проговорила твердо:
- Люда принеси Алексею воды.
Та встряхнула волосами, рассыпавшимися по плечам, и игриво переспросила:
- А почему воды? - с этими словами, мелькнув полами халата, она ушла, оставив мужа в полном изумлении.
- Мама, что с ней? - спросил он тихо.
- По-моему она начиталась книг, - ответила Елена Петровна и вышла в свою комнату.
Алексей остался один, потер ладонями лицо, обвел гостиную взглядом, будто не узнавая.
- Господи, что ж это у нас происходит? - прошептал тихо, сел.
*
Как самое вкусненькое напоследок Моргачев всегда приберегал вечернюю газету, потому что в ней на последней странице печатался кроссворд. Он и вообще спешки не любил, а для разгадывания кроссвордов время выделял специально, относясь к этому занятию почти также серьезно, как к телевизионным футбольным трансляциям.
- Запас чего-либо, используемый в случае крайней необходимости, - четко с расстановкой прочитал Анатолий Давидович, сидя в кресле на просторном застекленном балконе, положив газету на удобный легкий столик.
- А на какую букву? - отозвалась жена Моргачева. Ей было все равно, на какую букву, но спрашивала она постоянно и при этом с неподдельным интересом, будучи на самом деле уверенной, что принимает активное участие в разгадывании.
Пожалуй, ни единого слова не угадала Евгения Филипповна за много лет совместного с мужем увлечения. И не потому, что была уж так беспросветно глупа, нет, женщина она была по-хозяйски хваткая и расчетливая, но воспринимала все, что касается понятий абстрактных слишком буквально, и сосредоточиться на чем-то одном просто не могла. Она смотрела на мир всегда широко раскрывши глазами, чуть удивленными и наивными. Это выражение, это состояние осталось у нее с тех пор, как она впервые попала на улицы большого многолюдного города, голова у нее закружилась, и чувство страха, что она вот-вот потеряется или что ее обязательно обманут, не проходило. Впрочем, женщина она была незлобливая и уживчивая. Когда муж называл ей угаданное слово, Евгении Филипповне казалось, что и она думала именно о нем. Она тут же в этом и признавалась, не забывая восхититься мужем: "Господи, папочка, ну все-то ты знаешь!"
Анатолий Давыдович округлыми бисерными буковками вписывал слово в клеточки, выгибал при этом дугой свою кустистую бровь, и мурлыкал что-то под нос, довольный. Жена хвалила его по любому поводу, восхищалась его умом и остроумием, его находчивостью. Моргачева это ничуть не раздражало, даже наоборот. Ощущение уюта, тепла, дома без этих жениных восторгов, как и без мягких тапочек, удобного кресла и не слишком сложного кроссворда, было бы для него неполным. Чаще всего Анатолий Давыдович просто разделял мнение жены относительно своих действий. Он дома чувствовал себя по-настоящему счастливым, и жена вписывалась в это ощущение обязательной составляющей. Она вкусно готовила, была чистюлей, хоть и растеряхой, не лезла не в свои дела и всегда готова была исполнить волю мужа. При этом она убеждена, что своей настойчивостью сама создала себе такого супруга, воспитала его своей заботой и обхождением, - он не только на других женщин не смотрел, но и на сторону не тянулся, всегда спешил домой, только здесь под ее крылышком ощущая себя полностью умиротворенным.
Анатолий Давидович был склонен считать, что это его упорством и старанием из пухленькой девушки в цветастом платье удалось вылепить настоящую жену, хозяйку, верного спутника жизни. Он снисходительно поглаживал ее и одаривал, выполнял все просьбы, как бы оценивая прилежность и старательность. Удивительно дружно и счастливо жили Моргачевы, не понимая, как это люди вокруг них умудряются по несколько раз сходиться, расходиться, скандалить, драться, судиться, проклинать жизнь. И то, что у них все было хорошо и спокойно, позволяло смотреть на прочих мятущихся и спешащих людей чуть свысока, или, точнее, как бы через стекло, из-под занавески чистенькой, выглаженной, накрахмаленной. У них была своя жизнь, у всех прочих людей – другая, далекая, непонятная и очень мало Моргачевых интересующая. Трудности встречались, конечно, и в этом доме. Но к ним относились спокойно, совместными усилиями одолевали. Как сегодня, например - этот кроссворд.
- Я так думаю, на букву "Эр" - сказал с расстановкой Анатолий Давидович, заканчивая записывать слово. И произнес, смакуя, - ре-зе-рв!
- Верно, и я так подумала, - отозвалась тут же Моргачева.
- Мамуля, дай-ка мне холодненького, - попросил ее муж. И Евгения Филипповна бесшумно принесла высокий синий, богемского стекла, стакан с охлажденным персиковым соком.
- Может быть завтра навестим? - спросила она, имея в виду, разумеется, семью родственников дочери.
- Позвонят, - отхлебывая напиток, ответил Моргачев, и Евгения Филипповна успокоенная вернулась к гладильной доске разглаживать кружева на наволочках.
- Та-а-ак. - протянул муж. - Теперь на "ЗЭ". Спрашивается, что за столица африканского государства. - И тут же сам ответил, - Зим-баб-ве!
- Как? - не расслышала Моргачева.
- Зимбабве! - повторил Анатолии Давидович. - Я и не слыхивала такого государства отродясь!
- Тем более, что это не государство, а столица, - снисходительно, сквозь улыбку, пояснил Моргачев.
- Да что ты?
- Композитор, автор оперы "Фауст"? Ну это просто. Гуно.
Анатолий Давыдович никогда не слышал этой оперы, никогда не видел портретного изображения Шарля Гуно, но, много лет разгадывая кроссворды, он на некоторые вопросы, чередующиеся из издания в издание, отвечал автоматически, черпая информацию из публикуемых ответов. Память у него была хорошая, в голове содержалось множество необходимой информации, позволяющей обходился без записных книжек и блокнотов. Поэтому ему нетрудно было в довольно ограниченном реестре используемых вопросов найти мостики-связи с ответами. Так они парами и жили. Никогда не читая комедии Фонвизина "Недоросль", Анатолий Давыдович легко угадывал действующее лицо из шести букв. Знал он название типографского шрифта, химический элемент на "Ф", основоположника кибернетики, речку Лаклан в Австралии, и мог перечислить все одиннадцать горных вершин в Гималаях превышающих восемь тысяч метров над уровнем океана, начиная с Аннапурны и Джомолунгмы. И очень нравились ему кроссворды именно в вечерней газете, не такие заумные, как, к примеру, в размножившихся иллюстрированных изданиях. Самая длинная река в Европе. Остров Курильской гряды. Тропический фрукт. Водопад в Африке. Марка французского автомобиля на «Р». От разгадывания кроссвордов, как и от всего, Моргачев любил получать удовольствие. А какое удовольствие, скажите на милость, может быть, если вас заставляют искать населенный пункт в Юго-Восточной Азии, или, хуже того, теряться в догадках - какое именно созвездие Южного полушария имеется в виду? Их столько разных… Подобные вопросы пропускались как неизбежный дефект пути следования.
- Великий русский первопроходец? - прочел вслух Моргачев.
- На какую букву? - тут же отозвалась Евгения Филипповна.
- Вторая "е". Значит, Беринг. Совпадает. А по вертикали тогда что у нас будет? Восемнадцать по вертикали - это фруктовое дерево - гру-ша...
- Я чего-то грушу не люблю. Лучше арбуз, - проговорила Моргачева в паузе. - Правда, папочка? Хочешь арбузика?
- Естественно, - ответил спокойный Анатолий Давидович, - однако, хоть арбуз и больше, он в данном случае не подходит...
Работая уже более пятнадцати лет заместителем директора второй обувной фабрики по снабжению, Моргачев так построил взаимоотношения на службе, что не соглашался покидать свое место, хотя и случались предложения достаточно выгодные и престижные. Рекомендовали его и в управление, и даже в министерство, но Анатолий Давыдович умел тактично отвести свою кандидатуру, сохранить как он говорил, "свое выгодное статус кво". Всю работу вели инициативные и хваткие помощники его по отделу снабжения, контакты с поставщиками за долгие годы были четко отработаны, отрегулированы, нужно было их только поддерживать, не ломать, кое-где употребляя личные связи, ставшие за годы сотрудничества тесными, надежными.
Анатолий Давыдович никогда бы не стал работать по реализации продукции своей фабрики. Его ничуть не вдохновляли коллеги из этой сферы, вечно издерганные, измотанные постоянными конфликтами, непрекращающимися тяжбами, командировками, ответственностью в конце концов. Это не для Анатолия Давыдовича. Снабжать же предприятие сырьем, красителями, исходными материалами было для Анатолия Давидовича совсем необременительно. Натуральной кожей фабрика почти не пользовалась. А сырье химических предприятий ближайших регионов всегда текло по графику, каналами отлаженными многолетним притиранием с поставщикам. В свое время сам Моргачев из множества возможных комбинаций производственных связей выстроил наиболее удобные. С руководителями всех заводов и комбинатов он был знаком, со всеми умел договориться. Очень способствовало спокойной работе Анатолия Давидовича то, что директор фабрики оставался все эти годы один и тот же, план коллектив давал, в передовые не рвался, но и в отстающих не ходил. То есть, атмосфера на работе была вполне пригодной для Моргачева, и причин менять ее на что-то другое он не видел. Пенсия была рядом, рассчитывать на нее можно было твердо. Дополнение к ней, очень аккуратно и без столкновений с законом, отложилось вполне сносное, то есть волнения связанные с переменой места, коллектива, нервотрепкой были Моргачеву ни к чему. Его коллеги из соседних республик очень ценили деловые качества Анатолия Давыдовича, его спокойный нрав и верное слово, никогда не забывали при случае поздравить с праздником, или с завершением какой-нибудь крупной поставки. Поздравлять они умеют. И такое внимание согревает душу. Оно означает, что хоть небольшую, но и ты приносишь пользу обществу.
Но не любил Анатолий Давидович пустых рассуждений вокруг да около социальных проблем. Он считал себя человеком дела, был на хорошем счету у руководства и имел полное основание числить себя среди счастливых, то есть избранных, обласканных судьбою. Спит он на арабской широкой и мягкой кровати, ходит по ворсистым коврам, смотрит телевизор, мог бы иметь и гараж, и машину в гараже, но не любит сам возить, предпочитает, чтоб его возили; холодильник забит, дочь пристроена, дачи нет из принципа – каждый год в санаторий. Что еще человеку нужно для счастья? Было бы здоровье.
А то вот сват-то, Леонид Петрович, человек неугомонный, все на работе да на работе, все трудился, продыху не зная, - ан, как опять прихватило. Так и перевернуться недолго.
- Да, - допил Моргачев нежный фруктовый напиток из трех букв и поставил стакан на столик, - это вкусно... Так-так... А это что у нас? По горизонтали, стало быть, легендарный крейсер.
- На какую букву? – мгновенно отреагировала Моргачева. - Думаю, что на "A", - вяло, с расстановками проговорил Анатолий Давидович, прислушиваясь к тому, как выпитый сок заполняет желудок и оттуда вверх поднимаются щекочущие носоглотку пузырьки, готовясь с наслаждением рыгнуть.
Наконец, слегка изменив положение тела в кресле, он это сделал, громко и протяжно, облизался, как кот, и взял карандаш свой наизготовку, прицеливаясь в клеточку, с которой начинался легендарный крейсер.
- На здоровье, на здоровье, - радостно услышала утробное урчание мужа Евгения Филипповна. - Может булочку скушаешь?
- Булочку попозже, - медленно выговорил Моргачев, записывая очередное слово.
Приятно знать, что ничто не помешает привычному окончанию дня, - будет какая-нибудь развлекательная программа в телевизоре, будет булочка с нежирным кефиром и обязательно перед сном будет умывание теплой водой, полоскание ротовой полости мятным и глубокий безмятежный сон под теплым одеялом. Одеяло кстати, чисто пуховое, китайское...
*
Что побудило Леонида зайти в банк, трудно сказать, уж во всяком случае платить за коммунальные услуги он не собирался, совершенно точно, и снимать со счета ему было нечего, так как весь его капитал составлял один рубль, оставленный в свое время "на разживу".
Он сел за столик, взял бланки, стал писать, потом переписывать, скомкал, выбросил в корзину. Посмотрел таблицы выигрышей по лотереям. Как и следовало ожидать, и на этот раз он ничего не выиграл, хотя не видел никаких причин, мешающих именно ему стать обладателем билета № 33100016 серии 045 и получить стоимость выигрыша деньгами – в эквиваленте, - Джек-пот приближался к трем миллионам. Все сразу и только мне одному! Немедленно!
Ах, как просто и легко решились бы все проблемы, если бы… А ведь кто-то купил именно этот выигрышный билет. Кто-то опять выиграл. Да кто-то точно также пришел в кассу, проверил номер и глазам своим не поверил. Совпали все эти чертовы циферки… Инфаркт можно заработать.
Леонид никогда ничего в лотерею не выигрывал. Хотя играл много и всегда верил, что именно он-то и достоин получить главный приз. Не везло, фатально не везло. В газетах писали о том, что люди выигрывают сразу по сорок тысяч, а тут хоть бы одну единственную.
Был Леонид в прошлое воскресенье на ипподроме, своими глазами видел, как на табло появлялись умопомрачительные суммы выигрышей, как отдельные субъекты получали толстые пачки денег. Причем если ставку делал Леонид, то выбранная им лошадь как нарочно приходила последней, словно специально издеваясь над ним.
Не везло Леониду с деньгами, что ж тут поделаешь. Сменив несколько мест работы, он все никак не мог понять, почему же платят ему за его труд так мало, что не успевает он получить, как тут же оказывается, что денег уже нет. Очень странное у них свойство – исчезать неизвестно куда. И не возвращаться даже в случае крайней необходимости. Леонид рано научился занимать деньги в долг, не видел в этом ничего дурного, и довольно часто обращался к такой форме улаживания финансовых вопросов по сей день. До женитьбы и ухода из дома он очень мало задумывался, откуда что берется, что почем и не знал даже, сколько стоит пакет молока. Когда отец сказал ему твердое свое слово, разрешая жениться, что больше не даст ему ни копейки, Леонид улыбнулся, самонадеянно полагая, что прокормить себя, жену и ребенка всегда сможет. И не просто прокормить, но и обеспечить вполне приличную жизнь. Ему казалось именно так. И почему-то так хотелось жениться именно на Ирине, что он не слушал ничьих возражений, не принимал никаких советов. Заклинило. Ему было двадцать лет, и он был горд, что сумел настоять на своем, сумел "сломать" родителей.
Все, что последовало за этим Леонид вспоминать не любил. Вернее ему удалось убедить себя, что ничего и не было. Мол, все это ему приснилось, или даже не ему, а какому-то приятелю, который и рассказал об этом потом как о занятном случае. Всеми силами старался Леонид в свое время преодолеть удивительно не податливую, как оказалось, жизнь. Но не получилось. Стоило уладить одну проблему, возникало сразу несколько. Очаровательная, юная, чистая Ирина превратилась в непрекращающийся кошмар. Впрочем, нет, он прекратился и довольно скоро. Правда, чего это ему стоило.
Леонид после этого мог спокойно вернуться к отцу и покаяться: " Да вы были правы, я по молодости наделал ошибок, простите меня, что вас не послушал". Но не сделал этого. Напротив, в характере Леонида обозначилась линия жестокого упрямства. Он принял позу обиженного, он повернул все так, будто виноваты именно родители, не удержали молодого парня от необдуманного шага, способствовали его женитьбе. Отношения с отцом были натянутыми. Слову своему Леонид Петрович не изменял. И если Елене Петровне порой удавалось помочь сыну, то делалось это тайком от отца. Сколько же нужно человеку прожить жизней, чтобы научиться поступать правильно, не совершать ошибок? И как можно изо дня в день, из года в год заниматься чем-то одним, и тем же, если вокруг столько интересного, если хочется побыть и тем, и другим, попробовать и того, и этого, оказаться и здесь и там? Как же устраиваются некоторые, что все у них получается?
Внимание Леонида привлекла полная женщина средних лет. Она села за стол напротив него, достала бланк, стала заполнять на той стороне, где значиться "прошу выдать". Написала ровным почерком фамилию, номер счета и сумму прописью. Искоса наблюдая за самым кончиком шариковой ручки, выводящим буквы, Леонид словно всем своим существом вычерчивал вслед за ним "одну тысячу". Почувствовал, что женщина глянула на него, потянулся за новым бланком, стал что-то карябать на нем, не выпуская женщину из поля зрения. Подошла к окошку, протянула книжку и заполненное требование. В другом окошке под табличкой "кассир", получила сумму, пересчитала и положил в сумочку. Леонид не знал, зачем он скомкал бланк и бросил в корзину именно тогда, когда женщина проходила мимо. Зачем он встал и пошел за нею следом. Десятки разных вариантов проигрывалось в его воображении. Эту сумочку женщина забывает в кафе, где он рядом пьет сок.
В телефонной будке. Он заходит позвонить маме - висит. Что делать с находкой? Нужно прежде всего посмотреть, нет ли документов, чтобы узнать адрес и отослать или отнести вещь владельцу. Открываем – а там... Или же в последнем трамвае. В такси. Просто на тротуаре.
Господи, да мало ли случаев, когда люди теряют и на ходят, находят и теряют? Леонид шел за женщиной и кусал губы. Он чувствовал, как ладони его рук, в карманах куртки становятся влажными. Он отметил зачем-то, что на улице очень мало прохожих, и что к остановке как раз приближается автобус. Женщина свернула за угол. Леонид за ней. И тут же вынужден был остановиться. Женщина подошла к машине, открыла дверцу, села рядом с водителем на переднее сидение, и небрежно положила сумочку на колени. Номер остался в глазах: 28-82. Леонид провел ладонью по лицу и захохотал:
- Раскольников, братцы! В чистом виде! Ха-ха-ха. Это ж надо!
Прохожие оглядывались на него, сторонились. Но скоро он справился с приступом веселья.
Как ни в чем не бывало зашагал в сторону набережной, изредка улыбался, вспоминая свое приключение, и представлял, что бы было, если бы он попытался к примеру сесть вслед за женщиной в машину. Картины рисовались самые разудалые, с погонями, переворачиваниями автомобилей и даже спусканием по водосточной трубе. А ведь женщина, кажется, и не заметила, что ее преследовали, шла себе обычным шагом, несла свою сумку. Может быть это потому, что она слишком уверена в честности людей, или в надежности своего спутника, ожидавшего в машине? Кто он ей? Муж? Любовник? А может быть, подельник, соучастник? И Леонид только что стал свидетелем очередной махинации шайки злостных преступников, был рядом, но не сумел вмешаться, не сумел безвредить.
Ишь, как они рванули-то с места преступления! Поехали в казино проигрывать на рулетке свое состояние, нажитое грабежами и контрабандной торговлей живым товаром. Они же перепродают детские органы для трансплантации частным клиникам на западе! А добывают эти органы заманивая доверчивых глупых детей конфетами и обещаниями…
Да, если бы Леонид был полковником милиции, то он бы сейчас, не мешкая долго, отправился вслед за преступниками, выследил бы их, и накрыл бы криминальное логово, получил бы в перестрелке ранение, но спас бы жизнь ребенка обреченного на насильственное донорство, скрутил бы руки мошенникам, и в больнице получил бы от убеленного сединами командования очередной боевой орден и повышение по службе.
Леонид поморщился и сел на скамейку.
"Что ж это происходит-то со мной? - подумал он. - Куда это меня кидает? Спрашивается - и где же выход?"
Мимо проходила девушка в большой лохматой собакой, меланхолично обнюхивающей все скамейки подряд. Возле той, где сидел Леонид она остановилась и нагадила. Девушка виновато улыбнулась.
- Спасибо, что не на голову, - равнодушно сказал Леонид.
*
Владимир Андреевич считал себя обиженным, обойденным и даже обманутым. По его глубокому убеждению он был очень ценным работником и не было никаких резонов избавляться от него, посылая на пенсию, когда он еще так бодр и чувствует себя вполне способным работать. Причем, по его разумению, надо еще очень и очень посмотреть, и взвесить от кого пользы больше, он нынешнего, молодого сотрудника, или же от отставленного энергичного, делового, всезнающего, опытного Ермолаева. Причем самое обидное заключалось в том, что председатель был старше Ермолаева. И по возрасту он должен был бы первым идти на пенсию. Но вот, видите ли, рассудили "по справедливости". Ермолаева, значит, на свалку, а Купреянов продолжает как ни в чем ни бывало трудиться, и к заместителю добавили еще должность и помощника по согласованиям. Никак не ожидал Владимир Андреевич такого поворота событий. Прошло уже три с половиной года, а он все никак не мог успокоиться, все переживал и копил обиды. Устраиваться на службу, с понижением лишь бы что-то делать, он не хотел. Кадровики, чуть ли не издеваясь, предложили пойти в административно-хозяйственное управление отделом заведовать. Больше он, конечно же, к ним не обращался. Быть заместителем у Купреянова тоже нелегкий хлеб. Мужик он въедливый и если уж чего наметил, обязательно добивался выполнения, пусть вопрос и самый пустяковый, но память имел какую-то особенную, прилипчивую, никогда не забывал мелочей и всегда строго спрашивал за упущения, считая, что отрасль может работать как отлаженный механизм, если безупречным примером служебного рвения станет руководство. Смешно сказать, но он своих сотрудников, даже заместителей, и Ермолаева в том числе, как школьников, отчитывал за болезни, за использованное право на медицинское обслуживание.
Его, разумеется, слушали, но со злорадным нетерпением ждали, когда же сам-то он заболеет, чтобы заглянуть в глаза. Ничто человеческое и вам не чуждо, товарищ Купреянов? - спросили бы тогда защитники более спокойной жизни. Но не предоставлялось возможности такой - словно из железа был сделан Купреянов, ни разу за все годы работы ничем не болел. Не считая, конечно, сердечных приступов. Два или три уж было. Ну да, это с такой работой и понятно. Чем выше занимает человек должность, тем строже ведется наблюдение за тем, чтобы он был натянут как струна, настроенная на нужное звучание, чтобы не допускал послаблений, чреватых расстройством аккорда. А долго ли перетянуть струну, оборвать ее неосторожным движением или резкой сменой тональности? Вот и лопаются струны, вот и ставят на их место новые.
Конечно же, у Ермолаева в аппарате остались люди, не отказывающие ему в удовольствии быть в курсе всех дел. По привычке или про запас, но Владимир Андреевич всегда интересовался происходящим на оставленной ниве. Следил по газетам за официальными сообщениями, пользовался намеками сослуживцев и прямой информацией из канцелярии. Зачем ему это было нужно, он и сам толком не знал, но как человек обиженный, обойденный вниманием, несправедливо оставленный за бортом, он тихонько радовался, если поступали данные об уходе на пенсию еще кого-то из "стариков", если доходили слухи о неприятностях или грозящих перестановках. Знал, конечно же знал Владимир Андреевич о том, что Леонида Петровича с острым приступом сердечной недостаточности увезли из кабинета прямо на стол в клинику Николаева. Знал и о решении консилиума, разумеется. Везде были у него свои люди. Но вот чего никак не мог знать Владимир Андреевич – это кто еще звонил на квартиру Купреяновым в день семейного юбилея для поздравлений. Таких близких сотрудников было не слишком много. И потому было особенно интересно. Ермолаев не удержался, позвонил сразу же, как только ему сообщили о приступе. К сожалению, разговаривал не с Еленой Петровной, а с сыном, то есть эффект был уже не тот. Но все равно. Ермолаеву не хотелось думать, что он окажется единственным. Это может навести на подозрения. Хотя, в чем его подозревать? Он уже не работник аппарата, с него взятки гладки. А то, что написал целый ряд писем и высокие инстанции об упущениях в работе возглавляемого Купреяновым ведомства, что сообщил об использовании служебного положения в личных целях последним, хотя это и трудно было доказать, так пусть он теперь доказывает обратное! Пусть покрутится! - это законом не возбраняется. Ну а подпись поставить забыл по рассеянности. И вообще, кто сказал, что это он писал? Где доказательства? И машинка не моя, и бумаги у меня такой нет, и конверты чужие... Очень был обижен на своего бывшего .начальника Владимир Андреевич. Так сильно, что бессонными ночами в поисках способа напомнить о себе, хотя бы и не впрямую, хотя бы просто дать почувствовать свое отсутствие рядом, изобрел оригинальную форму эпистолярной деятельности - стал писать письма, для чего специально купил пишущую машинку, и подписывать их женским именем, письма посылал и домой и на работу, чтобы коллектив обратил внимание. Потом легко перешел на "аморальный облик руководителя, разлагающий своим сомнительным примером коллектив". Не знал Ермолаев, дали ли ход высокие инстанции его письмам, или оставили их без внимания. Сообщений о проверках и разбирательствах пока не поступало. Но то, что сердце Леонида Петровича не выдержало именно тогда, когда, в него был выпущен очередной залп сигналов без подписи, Владимира Андреевича тешило. Он чувствовал себя в центре событий, он принимал активное участие в общественной жизни, он посильно продолжал приносить пользу своей деятельностью. Нелегкое это дело, заслуженный отдых.
*
Три консьержки, сменяя друг друга, неотлучно дежурили в подъезде этого дома. Работая много лет, они в лицо знали всех жителей. Знали и помнили они и Леонида, хотя в последние годы он появлялся здесь не слишком часто. Сегодня дежурила грузная рыхлая Авдотья Минична в кофте неопределенного цвета и столь же почтенного, как и сама хозяйка, возраста. Авдотья вязала постоянно, и сидя, и стоя, и отвечая на телефонные звонки, и даже на ходу. Вторая, сухонькая, востроносенькая тетя Маша, только и делала, что читала сквозь толстенные желтоватые стекла очков. Читала все подряд - газеты, журналы, романы, брошюры, но особенно внимательно относилась к сборникам гороскопов и к изданиям гадательным. Сонники и зодиакальные предсказания – было излюбленным ее чтением. При этом не имело значения и то, что на соседних страницах предсказания буквально противоречили друг другу и могли трактоваться как душе было угодно. А может быть именно это и составляло особую радость ветерана труда тети Маши. Кто знает… Авдотья Минична привычно подняла голову от вязания на открывающуюся входную дверь. Леонид постарался кивнуть как можно степеннее, поднимаясь по лестнице, проговорил одними губами:
- Доброе утро.
- Доброго здоровьечка, доброго здоровьечка, - часто закивала в ответ могучей своей головой Авдотья Минична и проводила молодого человека взглядом. Этот взгляд не ускользнул от внимания Леонида.
"Знает, - подумал он. И в голосе ее были нотки сочувствия. И как только люди эти все узнают? А может быть просто нюх у них особенный или слух? Сидит себе тетка простая, привратница, глазами смотрит, кофты вяжет, а оказывается она вершительница судеб, Горгона или Цирцея. Кто там нити-то судеб держал в руках? А ведь это же тема! – рассуждал про себя Леонид, поднимаясь по ступенькам. Он в последнее время обуреваем был потоком все новых и новых "тем" - почти все, что окружало его, виделось ему значительным, важным, стоящим внимания и изучения. Да, тема. Лицо привратницы, как зеркало судьбы – жители собирались в дождливые вечера и рассматривали лицо Авдотьи Миничны, со страхом и надеждою выискивая пророчества или благословения... Леонид мечтал написать роман, который стал бы, как минимум, событием в мировой литературе. Он очень отчетливо представлял себе, как получает Нобелевскую премию, как гостит у Габриеля Гарсия Маркеса... У Куэльо… У Амоса Тутуолы… Далее, как его изучают в школе.
Но для того, чтобы книга появилась, нужно сесть и ее написать, другого способа нет, и за тебя этого никто не сделает.
*
На звонок открыл Алексей. Он был хмур, всклокочен, заспан. Леонид, увидев брата столь помятого и зевающего, улыбнулся.
- Да, судя по всему, ты ведешь активный образ жизни, - проговорил он, входя за Алексеем. - Производительно используешь свой выходной.
- Чего надо? - буркнул Алексей, снова ложась под плед на диван.
- Э-э-э нет, так не пойдет! - вошел в комнату Леонид и потянул плед на себя. - Я к тебе, можно сказать по делу, а ты...
- Отстань.
Леонид вернул плед, прошел по квартире. Никого не было. На кухне пахло подгоревшим кофе. Достав чашку, Леонид вылил из кофейника остатки темной жидкости, еще теплой, взял в холодильнике ломтик сыра. Сел и стал спокойно жевать, пытаясь продолжить линию размышлений о привратнице, как о героине будущего романа. Но мысли путались, перескакивали с одной темы на другую, витала почему-то перед глазами фраза "милый, я тебя не разбудил?"
Он решил поступить так.
Словно озарение ночью явилось.
Вариант самый простой и самый честный, как виделось Леониду. Он пришел со своими заботами к брату, пришел за помощью. И хоть их взаимоотношения складывались не слишком горячими, но тем не менее Леонид почему-то надеялся, что все сложится хорошо, что все обойдется.
Аккуратно вымыл чашку и поставил на место. Подошел к лежащему, закрытому с головы до ног Алексею. Сел рядом на стул.
- Нет, старина, ты мне совсем не нравишься, - стал говорить достаточно громко, чтобы и под пледом его было слышно. - Ну что это за жизнь в твои годы? Ты совершенно закис, аки тюлень. Это грозит ожирением, стенокардией, ишиасом и половой немощью. Давай-ка, мой милый, свожу я тебя в баньку. Сеня там из тебя новорожденного сделает. Бассейн, массаж... А?
Леонид чувствовал, что говорит не совсем то, что хочет и не совсем тем тоном, который бы понравился Алексею.
Даже скорее всего, вопреки намерениям своим самым чистым и благородным, Леонид почему-то ведет себя именно так, чтобы вывести брата из себя, чтобы уколоть его, задеть. И самое страшное заключалось в том, что, даже понимая все это, Леонид уже не мог остановиться, не мог справиться, некая странная сила толкала его в спину, и слова отыскивались какие-то ядовитые, и голос сам делался надменно-циничным, развязным. С первых слов теперь стало Леониду совершенно очевидно, что ничего из затеи не получится.
А может быть и это знала заранее Авдотья Минична? Как она сочувственно смотрела-то.
- Ну что, старина, собираешься в баньку? - ткнул ладонью брата Леонид и попал куда-то в межреберье.
- Какая баня?! О чем ты говоришь! - отбросил одним движением плед Алексей и сел на диване.
- Мой милый друг, скажи мне немедленно честно вслух, я тебя не разбудил? – очень серьезно спросил Леонид.
Алексей внимательно посмотрел на брата, промолчал. Широко зевнул и потянулся.
- С этим ясно, - продолжал в том же духе Леонид, - так я звоню Сене, пусть венички пропарит, приготовит...
- Слушай, я тебя не понимаю, какая может быть баня? Как в голову даже может прийти такое? В баню теперь, когда...
Алексей развел руки в стороны.
-Конечно, - туг же подхватил Леонид, - тем, что ты попаришься, ты нанесешь отцу какой-то вред. А тем, что будешь сидеть, аки свин, зачуханным, несомненно, поможешь ему... Верно я понял вашу, с позволения сказать, мысль?
- Прекрати, прошу тебя! Ты же знаешь, когда ты начинаешь словоблудить, меня мутит.
- Ах-ах-ах!
- Да! Может быть, в принципе ты и прав. Объективно. Нельзя помочь папе, отказавшись от чего-либо. Верно. Но предаваться удовольствиям теперь, даже думать об этом... Совесть, понимаешь ты это слово? - совесть должна быть... Да нет, ну это же чудовищно, это в голове не умещается... Чтобы я сегодня...
- Успокойся, прошу тебя, - примирительно сказал Леонид. - Вопрос снят. Баня, это так, к слову. Я к тебе по делу... Успокоился? Отлично. Многоуважаемый брат, я у тебя никогда не просил, хотя бывало всякое, но теперь пришел именно к тебе. Прошу оценить ситуацию правильно.
- Говори толком.
- Одолжи мне денег, - произнес Леонид и опустил глаза, Алексей вздохнул, почесал голову, словно продолжая размышлять о чем-то своем. И не сразу спросил:
- Много надо-то?
- Не так чтобы очень...
- Короче.
- Пять тонн.
- То есть?
- То есть пять тысяч свободно конвертируемых евро, - объяснил Леонид, сдерживая себя.
Он понял, что напрасно сюда пришел, напрасно завел с братом речь о деньгах. Понял, и злился на себя.
- Сколько, сколько?
- Ты отлично слышал.
- Да? И прямо сейчас из кармана?
- Конвертируемых - значит - в конверте.
- Ничего себе! - присвистнул Алексей. - Это зачем тебе столько?
- Надо.
- Зачем?
- Ну, к чему тебе подробности?
- Отвечай, зачем?
- Дашь?
- Я имею право знать, на какие цели тебе понадобилась вдруг такая сумма?
- Имеешь. Я хочу жениться. А визит к родителям молодой, ты это понимаешь, должен быть обставлен, как положено. Не могу же я прийти пешком? Я покупаю мотоцикл "Харлей-стало быть-Дэвидсон" и подкатываю к дому невесты. Родители ахнуть не успеют, как я увезу ее в неведомую даль, в счастливую и долгую жизнь.
- Ты что, мне голову морочишь? - устало спросил Алексеи, рассеянно выслушав бодрые фантазии брата.
- Да, - покорно склонил голову Леонид.
- Нашел время, - осудил его Алексей и. не сумев сдержаться, широко зевнул.- Послушай, Леня, - начал было он после этого, но брат перебил его.
- Так, будет наставление. Вместо дела. Ставлю вопрос ребром, денег дашь?
- Ты мне сначала объясни, - встал Алексей, внимания на слова брата не обращая, - как мне к тебе относиться? Дай мне инструкцию, чтобы я понял, наконец, что с тобой происходит. Я сейчас не о деньгах, это частность. Но давай взглянем на сложившуюся ситуацию со стороны...
- Умоляю, не надо смотреть со стороны!
- Кое-как закончив школу, ты в медицинский не пошел, сам выбрал политехнический, вычислительную эту технику. Так? Никто тебе слова не сказал. Ты поступил, как огурчик. Учись, работай. Нет, не понравилось. Ты ушел в архитектурный. Перевелся, так сказать. И как ты учился? Академический отпуск тебе делали. Заявления писали... Ладно, закончил с грехом пополам, не без скандалов. Так?
- Меня между прочим такси ждет, - ухмыльнулся Леонид.
- Ответь мне, ответь, взрослый человек, есть логика в перечисленных поступках? Нет логики! Было бы мне понятно, если бы ты увлекся и раскрылся на ниве, так сказать, архитектуры. Распределение ты, кстати, получил, в экспериментальную группу... Да, но ничуть не бывало! - Алексей возбужденно взмахнул пледом, складывая его и прижимая к груди.- Ты же не стал работать архитектором. Видите ли, понял, что ошибся! Тебя государство учило, тратило деньги, на тебя рассчитывали...
- У меня такое ощущение, что я все это уже где-то слышал.
- Ответь мне, что это? Ответь мне, чтобы я хоть теперь понял, что это? А? Как всю эту цепь поступков можно связать и объяснить?- остановился рядом с братом Алексей и наклонился над ним, прижимая к себе плед и подушку.
- А зачем объяснять? - закинул ногу на ногу Леонид.
- То есть, как это, зачем? - отшатнулся Алексей.
- А вот так это, - зачем?
- Ты хочешь сказать, что все это нормально?
- Я хочу сказать, что у каждого своя жизнь.
- И ты это называешь жизнью? - искренне изумился старший брат.
- Да, я это называю жизнью, - твердо, с расстановкой проговорил младший.
- Скажи еще, что ты всю жизнь мечтал именно о том, как бы все бросить и устроиться корректором в это мизерное издательство.
- Нет, об этом я не мечтал. Потому я оттуда и ушел.
- Очень мило. И где же ты теперь?
- Это не важно.
- Для тебя все не важно, черт побери! Как так можно жить?— Алексей бросил свою ношу на диван. - Не понимаю. Это что, безалаберность возведенная в принцип, или патологический инфантилизм? Где логика поступков, в чем она? Куда ты движешься? Что у тебя впереди? Задумываешься ли ты об этом?
- Да, теперь я вижу, что я тебя разбудил. Извини.
- Я не могу поверить, что ты не задумывался над этим. Ты же уже взрослый человек! Так безответственно относиться к жизни может только мальчишка, который думает, что все еще успеет наверстать и исправить. Но ты же носишь, фамилию отца... Неужели надо говорить тебе, что это должно обязывать...
- Я могу перейти на свою девичью фамилию, - неуклюже пошутил Леонид.
- Дурак! - вырвалось у Алексея.
- Согласен.
- Не понимаю, не понимаю, не понимаю, откуда это в тебе?
- Генетика, ты должен знать, отдыхает…
- А круг общения твой? Кого ты в дом приводишь? Это ж надо додуматься... Ты хоть представляешь, как бы папа отнесся к этому?
- Так мы договорились? - вдруг прокричал Леонид.
- Ты чего орешь? - опешил Алексей.
- Так мы договорились? - уже тихо спросил Леонид.
- О чем? - не понял брат.
- Ну, если мне не изменяет память, начинал я до твоих субботних проповедей, с просьбы одолжить мне денег. Ву компроне?
- Деньги? В смысле пять тысяч, да? Это, как его... Тут надо бы Люду спросить. Такая сумма.
Алексей замялся, вновь стал теребить плед, крик брата его выбил из колеи окончательно.
- Ага! - хищно потер руки Леонид. - Есть денюшка у Буратино!
- Вот она придет, надо будет посоветоваться.
Леонид взглянул на брата, опустившего голову, отгородившегося пледом, и вдруг увидел всю эту сцену со стороны, увидел свою роль, мизерную и жалкую роль просителя, которому отказывают и ощутил острый приступ стыда и боли. Ведь он знал, знал с самого начала, что именно так всё и случится, и тем ре менее пошел из дурацкой прихоти маленького самооправдания - мол, и на вас, сударики мои, лежит часть вины, потому что я прежде всего к вам, как к самым близким, обратился, но вы меня оттолкнули, не поверили мне.
И еще что-то темное и страшное вдруг выросло в повисшей паузе между братьями. Леонид почувствовал, что у него становятся холодными и влажными ладони и что ему хочется сжать их в кулаки и бить долго, с наслаждением в склоненную лысоватую голову, которая казалась почему-то мягкой и податливой.
- Ну что ж, советуйтесь, милые мои,- склонился до самого пола Леонид,- извините, что побеспокоил столь ничтожными пустяками, отвлек от государственных дум, не велите казнить холопа дерзнувшего... Отпустите только с миром Христа ради...
Алексей с недоумением взирал на произошедшие с братом перемены. Леонид, пятясь, продолжал распевным голосом:
- И я буду молиться за вас, спасших душу мою от греха тяжкого. Буду следовать во всем вашему примеру. На службу поступлю, к родителю поближе, чтобы покровительствовал, непременно в партию запишусь, как вы, не по убеждениям, а для отчетности, для заграничных поездок и гладкости характеристики, стану диссертации из пальца высасывать для повышения благосостояния и всегда буду со всем согласен, тих и шелковист.
- Ты чего это? - воскликнул Алексей испуганно.
- А что? Чистую правду, как на духу - завидую тебе и хочу во всём походить. Вот только получится ли?.. Так что, не дашь денег?
- Ты… Это... В общем, Люда, - стал мямлить Алексей, окончательно сбитый с толку перепадами в разговоре. – Ну, ты понимаешь...
- Скажи, жалко.
- При чем тут жалко? Она жена, она...
- Так может быть ее лучше зарезать в таком случае? Одним махом два добрых дела.
- Ты повторяешься.
- Разве? Извини. Не помню, что б я ее уже резал.
- Я не могу сказать точно, как она отнесется к подобной просьбе... Но догадываюсь, потому что сейчас как раз... В общем...
- Я понял, - встал Леонид. - Только учти, я обратился к тебе, хоть раньше этого никогда не делал. Одно это могло бы сказать тебе, что положение и в самом деле серьезное. Теперь, если ты мне отказываешь, выход один - преступление, - он говорил очень серьезно, даже трагично и нравилось ему видеть смятение в глазах брата, который никак не мог взять в толк, дурачится Леонид или нет. - И я его уже чуть было не совершил. Какое пятно ляжет на фамилию отца. Представляешь? Сын уголовник, казнокрад, семь лет с конфискацией.
Глаза Алексея округлились, он словно сел на кнопку – замер перед прочтением острой пронизывающей боли. Не дышал, только растерянно моргали ресницы.
Леонид улыбнулся.
- Да не переживай ты так. Успокойся, не обращай внимания. Все это ерунда! Выкручусь как-нибудь... А в баньку тебе все-таки сходить надо попариться. Ладно, пока. Привет мамуле!
Леонид легко повернулся на каблуках и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Внутренне он был доволен собой, своим поведением, тем, что точно предугадал поворот событий, и что последнее слово осталось за ним.
Кивком попрощался он с незыблемой Авдотьей Миничной, толкнул тяжелую входную дверь и встретился тут же перед подъездом с матерью.
Елена Петровна подходила к дому тяжелой походкой, плечи ее были опущены, волосы растрепаны ветром. Леонид сразу же отметил, как постарела мать, как трудно она передвигает ноги, какое землистое у нее лицо. Сердце его сжалось и очень четко сформулировалось в сознании; "Она не переживёт".
Леонид улыбнулся приветливо и обнял мать, наклонился для поцелуя.
- Здравствуй, мамочка.
- Лёнечка, ты как здесь?
- Да вот заходил к вам. Никого нет.
- Как нет? - встревожилась Елена Петровна. - А Леша?
- Спит.
- Что ж мы стоим-то, пойдем, сынок, пойдем. - Елена Петровна легонько подтолкнула сына к двери.
- Мама, - начал было говорить Леонид, останавливаясь, но затем передумал, открыл дверь и пропустил Елену Петровну вперед.
- Как дела-то у тебя? - уже на лестнице взяла сына под руку Елена Петровна. - Ничего, мамочка, прорвёмся.
- Ничего, - это пустое место, - совсем как в детстве наставительно проговорила мать и тут же повернулась к консьержке, подчиняясь многолетним рефлексам:
- Здравствуй, Минична.
- Добрый день, Елена Петровна, добрый день, - приветливо закивала пожилая женщина, отвлекаясь от вязания и широко улыбаясь.
- Не темно тебе вязать-то? - поинтересовалась привычно Елена Петровна.
- А я не гляжу. Я на ощупь, - привычно отшутилась Минична.
На том и расстались. Леонид же, пока мама беседовала с привратницей, придумывал иное развитие разговора.
"Как дела? – Ничего – Ничего - это пустое место! - Вот именно, - со вздохом ответил он. Нет, почему со вздохом? Вот именно, - ответил он со значением, - Именно!"
Елена Петровна открывала дверь своим ключом.
- Я так устала, - показала она головой, жалуясь сыну.
- Я тоже, мама.
- Входи.
Алексей стоял в прихожей, вопросительно смотрел на мать.
- Лешенька, дай мне, пожалуйста, попить, - попросила его Елена Петровна. Сын молча ушел в кухню. Елена Петровна сняла туфли.
- Ох, ноженьки, мои ноженьки, - вздохнуло она, надевая тапочки и проходя в комнату.
- Ты бы, мам, туфли-то без каблуков носила, - сказал Леонид, опускаясь на пол возле тяжело севшей в кресло Елены Петровны.
- Так не хочется еще в тапочках-то ходить, как Минична. Все же кажется что смогу, что не совсем я старуха, не хочется сдаваться. А гудят и печет, сил нет...
Алексей принес высокий стакан, в котором пузырилась минеральная вода Елена Петровна взяла стакан, отпила глоточек.
- Лешенька, что ты такой хмурый?
- Я нормальный, - буркнул зло Алексей, почему-то очень раздраженный тем, что мать вернулась с Леонидом.
- Ну я же вижу, что ты...
- Мама!
- Что это с ним? - спросила она у Леонида, положившего голову ей на колени.
- Моргачевщина, - проговорил Леонид.
- Что? - не поняла Елена Петровна.
- Мама, прошу тебя, - взвинченно сказал Алексей, не в силах устоять на месте. – Что, ради бога скажи сначала что - там?
- Плохо, Лешенька. Николаева не застала. Был этот, молодой. Слепцов...
- Он зять Облакова, - объяснил Алексей,- стажируется у Николаева.
- А папа? Как он там? - прервал брата Леонид.
- К нему опять не пустили,- устало сказала Елена Петровна.- Сказали, что лучше не беспокоить пока. Но завтра...
- Черт! - хлопнул себя рукой по бедру Алексей, - что же делать?
- Возьми стакан. Спасибо, - протянула Елена Петровна сыну пустую посуду. Рука ее после этого сама легла на голову Леонида и погладила его волосы. Алексей подбросил стакан и поймал его.
- Леша, это хрусталь, - заметила мать странное движение сына.
- Мне ты водички, не принесешь? - спросил Леонид. - Очень жажду.
- Дети, - всплеснула руками Елена Петровна и радостно сообщила.- Я же в церкви была. Заехала в Вознесенскую, свечку поставила, помолилась...
- Что? - вырвалось у Алексея. - Что ты сказала?
- Молодец, мамуля, - погладил ее Леонид.
- Мама, что ты сказала? - подступил решительно Алексей. – Повтори!
- Я сказала, что была в церкви, - спокойно повторила Елена Петровна.
- Это правда? - наклонился Алексей, сжимая в кулаке стакан.- Мама! - Он заглядывал ей в глаза. - Если так, то... Ты просто сходишь с ума!
- Не ори! - поднял голову Леонид.
- Как можно, мама? Как можно, я не понимаю? - шагал возбужденно Алексей. Ты же взрослый человек, мама. Этот дурак и мальчишка, я допускаю, на, такое пошел бы - ветер в голове, завихрения. Он - понятно, но ты? Никогда не ожидал. Ты можешь себе представить, что будет, если тебя там кто-то видел? Именно теперь, когда все только и ждут. Это скандал, мама, ей богу, это скандал, мне этого только не хватало... А папа, - узнают, представляешь? Нет, ну так нельзя. Это же убьет его.
- Ты когда-нибудь замолчишь? - спросил Леонид нарочито тихо.
- Сам молчи! - резче, чем следовало, ответил Алексей. - Дети, что с вами? Слава богу, уже не те времена, когда следовало всего бояться…
- Времена всегда те!
- Леша, что ты так из-за этого-то нервничаешь?
- Он не выспался, - объяснил Леонид.
- Слушай, - подскочил было к нему Алексей, агрессивно тряся стаканом, но остановился. – Нет, это в млей голове не укладывается... В церковь!..
- А куда? - тихо спросила Елена Петровна.
- Что куда? - запальчиво переспросил сын.
- Ну, если не в церковь, то - куда?
- Не понял, ты о чем? - помотал головой Алексей.
- Этот Слепцов дал понять, что надежды практически нет.
- Но мама, при чем тут церковь? Как чувствовал. Я и так на волоске, а тут еще это... На моей работе! Даже представить муторошно.
- Они отступились, опустили руки, - после некоторого молчания проговорила Елена Петровна. - Они повторяют одно и то же, что надо ждать, надо ждать. А я не верю, что нет выхода.
- И нашла его, поехала в церковь! - выпалил Алексей.
- Да, поехала просить помощи. Во всяком случае мне самой там стало чуть полегче. Уж не знаю почему, молиться я не умею, но…
Алексей взвыл, размахнулся и бросил стакан на пол. Так как стоял он возле двери, то попал не на ковер, а в паркет, - соответственно, брызнули хрустальные осколки, покатились по квартире.
В наступившей тишине Алексей молча наклонился и стал собирать остатки стакана в руку. Ползал по ковру, в коридоре, под столом. Успокоился таким образом, разрядился, когда набрал целую пригоршню колотой мелочи и отнес ее в мусорное ведро, там на кухне и остался.
Леонид поднял осколок, прикатившийся к нему, стал его рассматривать на свет. Острые грани причудливо искрились и переливались.
Елена Петровна сидела с закрытыми глазами, откинув голову на спинку кресла, руки устало сложив на коленях.
- Вот так мы и живем, - раздумчиво проговорил Леонид, глядя сквозь осколок на окно. Елена Петровна ответила тихим старческим вздохом.
- Конечно, я понимаю, что веду себя глупо, что Николаев ни в чем не виноват и делает все возможное. Но так не хочется верить, что уже все... Конец... Так не хочется... Вроде еще и не жили, только собирались... И тут это...
Елена Петровна закрыла лицо руками и замолчала. Леонид посмотрел на нее сквозь грани осколка - увидел размытое, изломанное изображение с ярким фиолетовым контуром, и только руки остались в фокусе, неизменными, знакомыми, родными. Эти руки мазали зеленкой и бинтовали ссадины на коленях, эти руки ласково и точно определяли температуру, едва прикоснувшись ко лбу, эти руки крепко держали его за руку при переходе улицы, они выпестовали, вымесили его из ничего, такие умелые, такие сильные. А теперь хрупкие, тонкие, постаревшие они беззащитно, по-детски размазывали по щекам слезы. Эх, мама, мамуля, как уходит время.
- И я готова, понимаешь, хоть богу, хоть черту, кому угодно. А он кричит на меня. Почему вы так не дружны, дети? Что с нами будет?
Елена Петровна тихо плакала, уронив руки. Леонид же, услышав ее фразу "хоть богу, хоть черту", вдруг почувствовал какой-то толчок, будто кто-то подсказал ему на ухо: "Вот оно".
Неясная, но спасительная вдруг обозначилась связь между маминой фразой, недавним выступлением Лохвицкого и загадочным словом "экстрасенс". Еще не представляя себе в полной мере, куда приведёт тот путь, на который он становятся, но поддаваясь неожиданному соблазну, увлекаясь странным разворотом темы и главное - фатальной увязкой событий, то есть, опять как бы выпадая из нормального течения времени, он проговорил:
- Мама, я пришел к тебе по делу, выслушай меня. Это очень важно. Долго я сомневался, говорить ли тебе, но теперь, после того, как ты решилась даже на церковь... Думаю, можно... Во всяком случае вреда это не принесет. А может быть удастся и помочь папе...
Сделав выразительную паузу, Леонид крепко сжал осколок в руке, словно боялся, что тот вылетит. Краем глаза Леонид заметил, что Елена Петровна подняла голову, слушает внимательно, смотрит о интересом и слезы её незаметно высохли.
Леонид остался доволен вступлением, голос звучал достаточно глухо, волнение ощущалось, даже срывался на шепот местами.
Захваченный шалой волной, оттолкнувшись от берега здравого смысла, Леонид уже не задумывался о том, куда выплывет, куда прибьёт его течение. Он старался говорить отчетливо, внятно, словно убеждая себя самого в существовании всего, о чем повёл он речь. Такое бывало с ним и раньше. Он мог так увлекаться в рассказах своих, в описаниях, что терял границы реального, его, что называется - заносило. И эти свои такого рода сочинения он позже вспоминал, словно реальность. Они для него оставались не выдумкой, но совершенно реальными событиями. Возникали такие отклонения не столь часто и были всегда совершенно немотивированными. Леонид просто не задумывался о последствиях, когда к слову, вдруг, без подготовки начинал рассказывать о чем-то интересном, привлекающем внимание. Некая волна подхватывала его, и он мог вдруг поведать о якобы только что случившейся встрече с бывшим школьным товарищем. Рассказать в подробностях, с красочными деталями, касающимися жизни одноклассника, назвать имена его жены, детей, описать в точности род занятий и тому подобное. Обрисовать так убедительно и полно, что никто и мысли не допускал сомневаться в реальности события, хотя на самом деле никакой встречи не было. Просто Леониду захотелось рассказать, вот он и рассказал.
Придумал мгновенно все от начала до конца. Зачем? Кто его знает. Ради красного словца, разве. Но сам себя оправдывал он тем, что шутки такие были на его взгляд абсолютно безобидными. Слова не могли причинить никому никакого вреда. Ни слушателям. Ни тем более школьному товарищу ни с того ни с сего вдруг воскресшему в памяти. Даже неудобства никакого пока не случалось из-за подобных историй, потому что всего лишь раз Леонид был уличен в обмане.
Как всегда возымело место подлое совпадение. Хоть и велик город и ничтожно мал шанс двойной встречи с одним и тем же человеком, но его величество случай иногда преподносит сюрпризы. Отшутился тогда Леонид, отбалагурился. Ничтожное происшествие скоро забылось.
И теперь Леонида уже ничто не могло остановить. Он увлекся своим рассказом, своим вымыслом так, что теперь спорил бы с кем угодно до хрипоты, если бы ему возражали.
- Да, я слушаю, тебя, Лёнечка, - прикоснулась к его голове Елена Петровна. Она готова была сейчас верить чему угодно. Леонид встал, прошелся, изображая тяжелые сомнения, вернее, сомневаясь по-настоящему, но и показывая специально, что он именно сомневается.
- Даже не знаю, стоит ли рассказывать тебе, это так для тебя непривычно. Тем более, что я вроде бы давал тебе слово.
- Леня!
- Хорошо. Значит так. Постарайся сосредоточиться и выслушай меня внимательно. Я готов буду ответить на все твои вопросы, но только потом, сначала ты должна услышать все целиком. Договорились?
Елена Петровна послушно кивнула.
- Прекрасно. Итак, ты, разумеется, знаешь, что рядом с так называемой официальной медициной существует и народная. Да? Вот. Таким образом, предприняв целый ряд шагов в этом направлении, посоветовавшись с опытными людьми.
- Умница, Леньчик! - вырвалось у матери, - я и сама уже думала.
- ... я вышел на нескольких субъектов, что лично лечился таким образом. Один - травами, второй, вернее, вторая - иглоукалыванием, и еще один мужчина рассказал мне об экстрасенсе. Нашем, местном. Это просто поразительно, мама. Ты, как специалист, поймешь, о чем идет речь. Этот мужик после автомобильной катастрофы страдал чуть ли не год. У него случилось смещение позвонков или что-то в этом роде. Короче, куда только его не возили, кто только не пытался излечить его. Но все попытки были напрасны, дошло до того, что у него стали отниматься конечности. И тогда его один мой знакомый отвез к тому дядьке. Простой дядька, не слишком и старый, но руки золотые. Что-то он там такое над ним сотворил - кандидат в инвалиды, одним словом, домой сам пошел пешком. И зашел к тому профессору, что убийственный диагноз ему поставил, мол, быть вам инвалидом, зашел и сказал "здравствуйте!" И станцевал перед ним гопак. У профессора челюсть отвисла. "Не может быть!" - только и сказал...
Леонид старался не терять нити своего увлекательного повествования. И не мог не почувствовать, что чересчур живописует и отклоняется. Но, поглядывая на слушателя конкретно - на Елену Петровну - он убеждался, что та полностью ему верит. Да он и сам рассказывал так будто только что беседовал е этим мужиком. Однако, с гопаком, конечно, вышло лихо.
- Да, так вот к чему это я? - Леонид потер вспотевшие ладони о брюки, выждал паузу, как бы приводя мысли в порядок. Затем продолжил, сбавив градус, по-деловому и даже с сомнением в голосе.- Понимаешь, никто не верил, только он сам и его родственники. И вышло. И теперь они того дядьку так благодарят.
- Это и понятно, - прошептала Елена Петровна. - С такими травмами люди вообще не живут.
- Вот! Ну и стал я расспрашивать о том, как и кто мог бы излечить старое больное сердце, причем ослабленное диабетом.
- И что?
- Он же, этот же экстрасенс, и сердце, оказалось, лечит. Причем очень даже успешно. Генерала одного после третьего инфаркта поднял, тот сейчас марафон бегает.
- Как найти этого человека? - сжала руки в кулачки Елена Петровна и вся подалась вперед.
- Мама, я же просил выслушать меня внимательно, - строго проговорил сын и даже сложил руки на груди.- Дело в том, что я с ним вчера уже виделся. Разговаривал. Нарисовал так сказать, картину, описал, как повел себя консилиум, и все прочее. Ну, ты меня понимаешь, очень просил помочь, войти в положение и все такое. Как это ни было трудно, уговорил! - торжественно закончил Леонид и и поклонился матери. Елена Петровна порывисто встала и заключила сына в объятья, поцеловала в щеку.
- Леньчик! - воскликнула она.
- Ма, сядь, прошу тебя, это еще не все, - усадил ее Леонид. - Возникла и некоторая щепетильность в ситуации, не совсем, так сказать, ожиданная... Я предполагал, разумеется, что подобные деятели работают не бесплатно, но...
Леонид сделал скорбно-растерянное лицо, которое на его взгляд наиболее соответствовало, и церемонно развел в стороны руки, изображая, - мол, тут я бессилен.
Елена Петровна нетерпеливо взмахнула руками.
- Сколько? - коротко спросила она. От ее недавней подавленности и разбитости не осталось и следа. Вновь в движениях ее чувствовалась энергия, заряд, целенаправленность.
Леонид помялся прежде чем отвечать, не без тайного ликования отмечая перемены в настроении матери.
- Значит так, мамочка, условия его таковы: завтра в полдень, он считает это время особенно благоприятным! (Господи, как заносит-то меня!) ему необходимо устроить встречу с папой. Он просит минут сорок, час. Это реально?
- Думаю, что да, - встала Елена Петровна и подошла к телефону.- Надо предупредить Николаева, чтобы...
- Мама, сядь, пожалуйста. Я еще не все сказал.
- Да, да, извини. - вернулась на место Елена Петровна.
- Так вот. За этот час он обещает провести полный сеанс, и почти уверен, что мышцы сердца вновь активизируются. Деньги он просил передать ему перед сеансом.
- Сколько?
- Я бы и сам расплатился, но сейчас временно у меня не оказалось именно искомой суммы.
- Да что ж ты такое говоришь. Это же ерунда, деньги,- достанем, если только в них дело, - будут деньги.
- Пять тысяч назначил, - выдавил, наконец, Леонид и посмотрел на мать.
Елена Петровна, казалось, уже не слушает, она уже вся была где-то в полете, в делах, в организации предбудущего исцеления.
- Пять, так пять. Молодчина, Леньчик, умница. Значит, завтра утром нужно передать деньги и чтобы пропустили к двенадцати? Правильно?
- Совершенно точно, - упавшим голосом сказал Леонид.
Ему вдруг сделалось не по себе. Мать так легко пошла на все, что он разыграл, так получилось все просто, что не было ни радости, ни удовлетворения, только опустошенность. А теперь добавилось вдруг еще и неприятное опасение - а не слышал ли этот разговор Алексей. Если он уловил последнюю фразу, то ему конечно же все станет ясно. А это...
Впрочем. Леонид не стал думать о последствиях, не захотел утруждать себя. Он беззаботно отогнал от себя нависавшее облако угрызений и сомнений, словно раздвинул руками густые заросли и, не оглядываясь, вышел на простор. В голове звенело. Руки предательски дрожали и почему-то никак не находили себе места. Леонид неверным шагом подошел к Елене Петровне, наклонился к ней, поцеловал.
- Я побегу, мамочка, надо еще успеть кое-что оформить. Ладно? А попозже вечером позвоню, узнаю как и что.
- Зачем звонить? Звонки - это пустое. Приезжай прямо с утра, заберешь деньги, потом заедешь за тем человеком. Я вызову машину.
- Ну, пока.
- До завтра, сынок.
Когда хлопнула входная дверь, Елена Петровна уже была у телефона. Она сняла трубку и начала набирать номер. Неслышно появился в комнате Алексей, всклокоченный и мокрый. Он остановился в дверях и виновато посмотрел на мать.
Елена Петровна положила трубку и обеспокоенно подошла к сыну:
- Что это с тобой, Лешенька?
- Я порезался, мама, - показал Алексей руку. По пальцу текла кровь.
- Ах ты, горе мое. Промыл?
Алексей кивнул.
- Глубокий порез? Кровоточит... Давай перевяжем.
- Мама, скажи, ты на самом деле была в церкви? – бесцветным голосом спросил Алексей, не обращая внимания на кровь, стекающую по руке.
- А ты почему мокрый-то такой, - только сейчас заметила Елена Петровна.
- Я остужал себя холодным душем.
- Мог бы и раздеться при этом. Ну, пойдем, перевяжу, а то...
- Мама, ответь мне! - стоял на своем Алексей.
- Да какая там церковь, Леша, пошутила я, неужели ты не понял. Просто от всего этого голова кругом идет.
- Так ты не была там? - в голосе Алексея прозвучала надежда.
- Не была, не была, - успокойся, - решительно подтолкнула Елена Петровна сына в сторону ванной. Тот повиновался.
- Мама! - повернулся он.
- Помолчите, больной, - шлепнула его легонько Елена Петровна и улыбнулась. Глаза ее при этом оставались сосредоточенными и глубокими. — Вам нельзя разговаривать.
- Вообще? - уже не столь отмороженно спросил Алексей.
- Вот что, милый, ты давай-ка сам тут разберись, - Елена Петровна оставила дверцу аптечки открытой. - Ты хоть и теоретик, но повязку-то наложить сможешь, надеюсь... И переоденься.
Елена Петровна вымыла руки и пошла звонить по телефону. Ответил Слепцов, сказал, что завтра Николаев будет, и что в случае нормализации встреча будет разрешена непременно. Просил не волноваться. Говорил очень мягко, не так натянуто, как в клинике, из чего Елена Петровна поспешила сделать вывод, что положение улучшается. Вошел Алексей с забинтованным пальцем и виновато проговорил:
- Мам, ты прости меня, пожалуйста...
Елена Петровна притянула его к себе, обняла. Ответила тихо со вздохом:
- И ты меня прости.
*
Авдотья Минична Салтыкова жила на втором этаже старого трехэтажного дома и проклинала за это всех и вся. Потому что не было большего для нее мучения чем подниматься и спускаться по лестницам. Очень болели ноги. Это еще с детства, видимо, пошло когда случилось ей провалиться в прорубь и поморозить их сильно. Тогда катания на санках и коньках устраивались все больше на замерзших прудах. И когда кто-то проваливался в полынью или прорубь, это не было редкостью. Но Тоню - так Авдотью Миничну девочкой звали в семье - угораздило попасть под лед в самую стужу. И пока она выкарабкалась, пока до смерти перепуганная добралась домой, ног уже под собой не чувствовала. Буквально. Правда, уже вскоре после этого она забыла о случившемся, но сила смолоду была, горяча и бойка, на танцах кружила головы всем подряд. Мелькала легким жоржетовым платьем. Это лишь теперь, к старости затаившаяся боль выползала из гнезд своих, наливалась тяжестью в ноги и приковывала Авдотью Миничну к одному месту. Сидеть было не тяжело, только если потянет сыростью, то ноги словно разбухали, начинали ныть.
- Крутит их, как я не знаю что! - жаловалась иногда соседкам Минична, вынужденная просить то одну, то другую об одолжениях - за квартиру сходить заплатить, на почту или по какой другой надобности. В магазин она ходила сама. Вернее, заходила раз в три дня, возвращаясь после дежурства, покупала хлеб да молоко, да иногда карамельки, чай пила с ними вприкуску. Много ли ей, одинокой надо-то? Платят исправно, место хорошее, теплое, люди все вежливые, да и кофтами всегда помочь себе можно. Берут. Приспособилась Минична так ловко вязать, что звали ее сменщицы не иначе как «прядильная фабрика». Сиди, вяжи, посторонних не пускай, если что - по телефону звони, там все указано, на ночь двери закрывай. Чем не работа? И главное - рядом. Только улицу перейти, за угол свернуть, и на месте. Огромный, в целый квартал, дом, входы все со двора. Да и двор такой, что чужой сюда не войдет, уж больно основательно все, не разгуляешься.
Очень любила свою работу Авдотья Минична. потому что – на людях. Пройдет кто-то, поздоровается, а то и спросит, как здоровье. Вот и пообщались, вот и словом обмолвились. Теплее стало. Возвращаясь же домой, преодолевая ненавистные ступеньки скрипящей лестницы, открывая свою дверь, Минична всегда вздыхала. После смерти сына она иначе свое жилище и не называла, только " моя могила однокомнатная". Комната была большая, квадратная, с двумя окнами, выходящими в глухой переулок, светлая и вместительная. Но только не радовала она Авдотью Миничну, просиживающую целыми днями в старом кресле или лежащую на продавленной панцирной кровати с никелированными набалдашниками. Ничто уж не радовало одинокую женщину, измученную болезнями. Всю жизнь была квартира коммунальной, а тут затеяли какую-то перестройку, нагородили новых дверей, провели по трубам газ и воду в каждую коморку - обеспечили отдельным жильем, изолировали, значит. И ведь кто-то хлопотал, добивался, из кожи лез, чтобы старый добротный дом перелопатить, чтобы только от соседей избавиться, запереться со своим собственным телевизором и чадом от пригоревшего лука.
Авдотья Минична прекрасно понимала, что если доведется ей неожиданно умереть, к примеру, то хватятся ее ох как не сразу. Соседи, хоть и много лет прожившие рядом, бок о бок, перетерпевшие вместе достаточно всякого, теперь каждый за своей собственной дверью, в своей изолированной квартире, были заняты своими проблемами. Времени и возможности поинтересоваться, заглянуть, поговорить почти не находилось. Салтыкова поэтому с удовольствием подменяла на работе своих товарок, если случалось что-то непредвиденное. Но только такое бывало слишком уж редко. Да, если бы не помер сын ее, Родик, все сложилось бы по другому, - женился бы, обзавелся бы детишками, и были бы у бабушки Авдотьи внучата. И некогда стало бы обращать внимание на ноги, надо бы было как все бегать, суетиться. Но не судьба, видно, Авдотье Миничне возиться с внуками. Как пошло с тех давних пор, когда отца ее, рабочего Миняя Парфеновича Салтыкова увезли, обвинив в непролетарском происхождении, обнаружив в нем не то поповский, не то графский корень, - так сбилось все в семье наперекосяк, изолгалось, изгваздалось.
Отец Родика был веселым и беззаботным, любил шум застолья и громкую музыку. Познакомились, как водится, на танцах. Стали встречаться, целовались после танцев, через несколько недель стали жить вместе, в Тониной комнате - тогда уж и последнюю родственницу, тетю Таню, похоронила. Но красивый улыбчивый Василек почему-то не хотел расписываться, как все люди.
- Чего тебе еще? – спрашивал, взбивая свой лоснящийся черный кок.- Я тебя люблю и деньги регулярно отваливаю. И очень не желаю умножать твои неприятности...
Была ли это любовь? Авдотья Минична не задумывалась над этим никогда. Работала на фабрике упаковщицей, спешила после смены к Васе на свидание и прижималась к нему в кино. Он был такой уверенный и сильный, с ним было хорошо. По утрам он пел про ландыши и тщательно до синевы выбривал подбородок. Потом исчез совсем. Ни слова, ни привета, ни весточки, как в воду канул. Родился Родя, слабый светлый мальчик, которого во дворе прозвали со временем селедкой. Никогда и никого не просила Авдотья Минична столь униженно и слезно, как врачей, что пытались лечить ее сына. Умоляла сделать все возможное, обещала чем угодно отблагодарить, но ничего не помогало, совсем прозрачным становился мальчик. И вот как-то тетя Маша, знакомая еще по фабрике, ушедшая на пенсию и определившаяся на дежурство в тот самый дом, сказала, что у нее подъезде живет самый главный из врачей, начальник. И надо обратиться непосредственно к. нему.
- Человек он хоть и очень серьезный, но выслушает и поможет непременно, - заверила тетя Маша. Она на пенсии пристрастилась к чтению и обожала такие слова, как" "непосредственно", "непременно", "кардинально".
- Родьку-то брать? - спросила Авдотья сразу.
- Да причем тут Родька твой? - всплеснула натруженными руками тетя Маша. - Надо человека категорически попросить оказать содействие, понятно тебе? Ему это - тьфу. За ним знаешь какая машина каждое утро приезжает?
- Ну?
- Здоровущая, что твой катафалк. И привозят пунктуально к подъезду. Вот что я тебе скажу, Тоня, ты приходи ко мне завтра же часам к семи, раньше он не приезжает, посидим, потолкуем, а как появится, я уж его и остановлю... Устроим...
Так и сделали. Тетя Маша долго и настойчиво объясняла Авдотье, что говорить и как вести себя. Несколько раз, когда подъезжали машины, хватала свою протеже за руку и резко дергала, приводя в боевую готовность. Но это все были не те жильцы. Их хоть и не так много обитало в подъезде - на просторных лестничных площадках было всего по две двери, стало быть и по две квартиры - но машин почему-то казалось подкатывало много.
- А у них тут как, тоже коммуналки? - спросила измученная ожиданием Авдотья.
- Тьфу на тебя, - сурово проговорила тетя Маша. - Думай о деле, какие тут к лешему коммуналки! Не видишь, че ли?
Когда приехала длинная черная машина, и тетя Маша больно ущипнула Авдотью за руку, у той почему-то потемнело перед глазами.
0на услышала, как тетя Маша здоровается с высоким статным мужчиной в шляпе, вошедшим в вестибюль:
- Леонид Петрович, добрый вам вечер. Позвольте непосредственно обратиться. Вот у моей знакомой сын очень болен, а что с ним, врачи никак не разберутся. Нельзя ли помочь? Трудный случай.
Голос тети Маши звучал высоко и раскатывался эхом по гулкой мраморной лестнице.
- А сколько лет вашему сыну? - услышала Авдотья Минична рядом с собой низкий мужской голос. Но вместо ответа, она почему-то заплакала, не в силах произнести ни слова.
- Да как и вашему младшему, Леонид Петрович, - бойко проговорила тетя Маша. - В третий класс пошел. Но только хилый уж больно, просвечивается весь.
- Вы успокойтесь, пожалуйста, - услышала Авдотья Минична опять тот же голос. - И завтра к одиннадцати часам привозите мальчика в центральную детскую клинику. Знаете где она?
- Найдем! - заверила тетя Маша.
- Обратитесь к профессору Поздняковой. Я позвоню ей. Вы меня слышите? Все, что можно сделать, будет сделано.
- Да слышит, слышит она. Спасибо вам, Леонид Петрович, спасибо. Извините, что задержали.
- Всего вам доброго, - проговорил мужчина и поднялся по лестнице.
После того, как устроилась Авдотья Минична, опять же при содействии неувядаемой-несгибаемой тети Маши, сюда в этот самый подъезд дежурить, видеть ей Леонида Петровича приходилось часто. Он, может быть и не вспоминал о той первой встрече, но Авдотья Минична каждый раз вставала со своего места, приветствуя жильца и опуская глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом.
Узнала она и о семье его, на глазах ее вырос младший сын Леонида Петровича, женился старший, пролетели годы. Бывало разное, но не было за все прошедшее это время ни единого разу, чтобы Аддотья Минична не вспомнила добрым словом профессора Купреянова. От тети Маши, в тот раз конечно же досталось.
- Ты чего нюни-то распустила, как телка, ей богу! - отчитывала она. - Чего перепугалась-то? Или он кусается?
- Не знаю, что со мной сделалось, - сокрушалась Авдотья.
- То-то, что не знаешь. Когда не надо, так боевая... Ну да ладно. Фамилию-то, к кому обратиться запомнила?
- Да.
- А где эта самая больница-то, знаешь?
- Найду.
Профессор Позднякова была одних лет с Авдотьей Миничной. Сухая, резкая, седая она напоминала полководца Суворова из старого художественного фильма. Говорила коротко, четко, словно отдавала команды. И ясно было, что на все свои вопросы она заранее знает все ответы.
- Да. Леонид Петрович звонил. Вы ему кто?
- Никто.
- Ясно. Хорошо, будем оформлять. Как тебя зовут? – обратилась она к сыну. - Лодя, - тихо ответил тот.
- Что еще за Лодя? - почти возмутилась профессор. - Что за имя такое? Нет такого православного имени!
- Родион он, - поспешила объяснить Авдотья Минична. - Родя, значит.
У сына выявили очень сложную болезнь крови. Папаша, объяснили, наградил. Пытались лечить, переливали, кололи. В санаторий отправляли. Но через год к лету Лодя умер.
И Авдотья Минична все время боялась, что Леонид Петрович, проходя мимо ее стола, спросит невзначай, как мол здоровье сына, боялась, что придется отвечать.
В первый день, как он увидел перед собой встающую новую грузную консьержку, Леонид Петрович узнал в ней давнюю просительницу.
- Ну как ваш сын? - спросил вежливо.
- Спасибо вам, поправляется, - зарделась нездоровым румянцем женщина. И это было правдой. Целый год казалось, что Родя идет на поправку, ел он строго по расписанию икру и чернослив, вроде бы и в весе стал прибавлять. Как на бога, на Леонида Петровича молилась Салтыкова. А потом вдруг стало мальчику плохо. Совсем. Куприянов больше не справлялся о его здоровье, лишь прикасался к краешку шляпы, проходя мимо, и чуть заметно кивал.
Авдотья Минична довольно скоро знала уже всех жильцов по фамилиям и в лицо, здоровалась приветливо, бодро шутила. Но всегда с особым интересом смотрела на семью Леонида Петровича. Скромная и добрая Елена Петровна всегда находила несколько слов для привратницы, всегда оценивала ее усердное рукоделие, неизменно была опрятной и стройной, даже с хозяйственной сумкой.
- Что ж, оно и понятно, такому человеку и жена соответствующая, - растолковывала тетя Маша, склонившись над очередным номером еженедельника.
Старший сын Алексей, видно было, во всем старался быть похожим на отца, ходил важно, будто постоянно вспоминал о чем-то, но здороваться обычно забывал, и никогда не придерживал за собой дверь. Особенно же много стал суетиться после того, как женился. А о Людмиле этой, жене его, точнее, чем тетя Маша, опять же не скажешь, - "Пришей-пристебай!"
В младшего сына Леонида Петровича Авдотья Минична была просто влюблена. Высокий, ладный, всегда веселый, всегда скачет через три ступени. Очень она жалела, когда тот выехал из дома, когда женился и стал бывать лишь наскоками. Отдалился, потускнел. "Погас парень."
Живя в доме и проходя ежедневно мимо несущих вахту дежурных, мало кто задумывается над тем, что и эти сидящие за столом пожилые женщины принимают участие в их жизни, оценивают их поступки, обсуждают наряды, способы общения, обновы, перемены в судьбе.
Мало кто из проходящих обращает внимание на тонкие психологические нюансы скрытые во взглядах, интонациях, улыбках. А для многих это было бы очень поучительно, словно взглянуть на себя со стороны. Хотя, где найти время, чтобы еще и людям никак с тобою не связанным уделить его, когда тут на свои собственные, неотложные горящие заботы часто минуты не хватает, приходится спешить, догонять, наверстывать.
Мало ли кто там вяжет кофты...
*
Двухдверный «Мерседес» с номером 40-00 свернул с широкого полотна проспекта на пересекающую его улочку. Пробравшись мимо двух фургонов с мебелью, миновав узкий мостик через рукав канала, машина остановилась на темной набережной рядом с обшарпанной аркой, украшенной тяжеловесной лепниной. Старые чугунные ворота перегораживали арку, мятые баки с мусором громоздились под сводами.
Лохвицкий не глушил двигатель. Побарабанив пальцами по ободу рулевого колеса, он процедил сквозь табачный дым:
- Здесь. Во дворе.
После этого драматург повернулся к пассажирке, сидящей рядом на переднем сидении, небрежно откинувшейся на мягкую спинку. Убавив громкость CD-плейера, чтобы мелодия звучала еле слышно, Лохвицкий сказал наставительно:
- Вот что, Ингуля, ты можешь сочинять всё, что взбредёт в голову, вести себя, как тебе вздумается, но мне надо, чтобы ты его подтолкнула... Он мнется, он с выкрутасами, его надо чуточку направить... В нужном ракурсе...
- Я это поняла еще утром, - спокойно ответила девушка. – Склероза у меня пока не наблюдается.
- А если он удивится твоему визиту и не впустит? – испытующе взглянул на Ингу Лохвицкий.
- Меня? - переспросила Инга так, словно и мысли не допускала, что у нее может что-то не получиться. - Ну ты, дядя, даёшь! Да если б ты видел, как он писал свою цидульку - как нищий просит подаянье. Он встанет на колени, коленопреклоненно слижет блевотину и благодарно сделает все, что я ему велю!
- Я тебе верю,- едва заметно улыбнулся Лохвицкий. И продолжал почти равнодушно. - Намекнешь ему, что, мол, долг будет прощен и все такое. Пусть расстарается...
- Намекну.
- А если почувствуешь, что выскользает. Ну это я так, предположительно. Ты скажи, что придется побеспокоить мамочку.
- Слушай, ты же мне все это уже говорил.
- Не лишне умного человека послушать еще раз. И не увлекайся там... А это, как обещал... Заработала.
Лохвицкий достал с заднего сидения "дипломат" открыл цифровой замок крышки и вынул небольшую серенькую коробочку. Словно рыбку дрессированному дельфину бросил ее Инге. Та ловко схватила коробочку и прижала к груди. Глаза ее узкие полыхнули странными огоньками, но признательности дельфиньей в них не было. Коробочка незаметно оказалась в сумочке, руки сложены на ней, глаза опущены, погашены.
- Ладно, песня, иди, - провел ладонью по голове и плечу девушки драматург. Та, не взглянув на Лохвицкого, открыла дверцу и опустила ноги на тротуар. Задержалась.
- Слушай, - сказала глядя перед собой, - а зачем тебе все это? Ты же и без него...
- Инга! - одернул ее Лохвицкий.
Девушка послушно выскользнула из машины и захлопнула дверцу. Драматург, оставшись за рулем, покачал головой, проследил, как ленивой походкой изящная фигурка удаляется по проезжей части улицы, как скрывается в тени грязной арки. Привычным движением руки Лохвицкий добавил звук магнитофона, аккуратно погасил сигарету и.выбросил ее в канал. Какое-то время посидел, побарабанил пальцами по рулевому колесу, затем посмотрел на часы и тронул ручку переключения передач, легко пуская машину вперед по набережной.
Медленно, диковинным дрессированным животным плыл по узкой старой набережной сверкающий жемчужно эксклюзивный "Мерседес". Неожиданно машина остановилась и будто спохватившись поехала задним ходом в обратном направлении.
Лохвицкий сквозь решетку арки всматривался во двор, но Инги там уже не было. Сдав еще немного, он ловко развернул машину и, набирая скорость, влился, в оживленный поток транспорта.
*
Леонид с трудом протолкался к выходу из переполненного автобуса. Вырвавшись на улицу, облегченно вздохнул. Он был в приподнятом настроении. Сам не понимая почему, он бегом бежал чуть ли не весь путь от маминого дома до остановки. Если бы ему сейчас предложили вскопать огород или наколоть дров - он бы с удовольствием сделал это. Гулко стучало в груди сердце и постоянно хотелось подпрыгивать, бежать куда-то или делать что-то упорно и долго только бы не задумываться о том, что происходит.
Леонид зашел в маленький подвальчик, где располагалось кафе "Три Я".
Два «Я» объяснялись просто. Работали здесь два Яши, один из них был раньше барменом в Доме кино. А жена одного из Яш - Мира, в девичестве была Язвинской, - поэтому третье "Я" красовалось на вывеске тоже вполне законно.
Здесь никогда не бывало многолюдно, можно было выпить чашечку сваренного в раскаленном песке кофе в тишине с удовольствием. При входе Леонид столкнулся с Аркадием, высоким крашеным артистом одного из вновь образованных театров. Они были знакомы и потому привычно пожали друг другу руки. Однако Леонид не выпустил ладони приятеля.
- Привет.
- Здоров будь и ты. В чем, собственно, дело-то? - остановился Аркадий.
- Я тебя искал, - проговорил Леонид. - Ты не слишком спешишь?
- Да нет, - неопределенно ответил Аркадий. - А что такое?
- Давай потолкуем.
Леонид не искал его, разумеется. Он может быть и не вспомнил бы о нем никогда, если бы вот так не столкнулся реально лицом к лицу. Но тут же при столкновении, как это и должно быть при высекании ассоциаций, немедленно высветились - возникли в памяти скупые поверхностные, но весьма нужные данные: он артист театра, амбициозен в нужной степени, мечется в поисках заработка на радио, телевидении, халтурит напропалую и, помнится, в какой-то компании, где довелось коротать время за литром водки отечественного производства с кальмарами рисом и помидорами, очень неплохо рассказывал анекдоты. Сама судьба подсовывает именно того, кто нужен в данный исторический момент.
Лицо Аркадия было узким и иссушенным, под глазами залегали тяжелые мешки, редеющие волосы длинными космами кучерявились на плоском затылке. На мизинце левой руки был выращен чудовищного размера желтый загнутый внутрь ноготь. Что он с этим ногтем делал в своем театре, Леонид не знал. Слышал разные отзывы, но сам никогда не бывал там. Да это и не было необходимым. Аркадий был именно из той категории людей, которых мысленно перебирал Леонид в своей виртуальной картотеке для сопоставления с неким драматургическим, сложившимся от обстоятельств, замыслом. Очевидно было, что он подходил. И в том, что так удачно все складывается, Леонид склонен был видеть хороший знак. Еще и не подозревая о встрече с артистом, он словно бы предчувствовал ее, когда так убедительно рассказывал матери о договоре якобы имевшем место с экстрасенсом. Сейчас это самое уязвимое место в его версии встречи с экстрасенсом, находило реальную поддержку, вернее, воплощение.
Леонид, может быть чуть громче, чем требовала обстановка попросил:
- Яков-джан, две баночки вскипяти, пожалуйста!
Сели с Аркадием в угол за маленький столик, на котором услужливо размещалась сухарница, салфетки, пепельница. Леонид молчал и почему-то подмигивал недоумевающему Аркадию.
- Ну что, старичок, я слушаю тебя? - наконец, не выдержал тот неопределенности и заглянул Леониду в глаза.
- Как дела-то? - отозвался Леонид.
- Какие?
- Ну, вообще. Как жизнь творческая протекает? В театре, к примеру, вашем экспериментальном, новаторском, как обстановка?
- Нормально. А что?
- Да так, интересуюсь. Что ставите, что играете? Каковы творческие планы?
- Да пошел ты.
- Нет, серьезно, давно не виделись, может какие-то изменения у тебя в жизни?
- Никаких. Слышь, или ты говоришь, чего надо, или я сваливаю, не люблю когда мне...
- Не кипятись, Аркаша, все будет хорошо, - довольно бесцеремонно перебил его Леонид и положил сбою влажную руку ему на плечо.
И откуда бралась эта уверенность и развязность? Он и сам заметил, что, начиная с разбитого Алексеем стакана, как-то по-иному воспринимает все окружающее, в каком-то странном, словно раздвоенном свете. Он и принимает участие в происходящем и будто бы со стороны наблюдает за действием, уже не в силах ни вмешаться, ни предотвратить. Так замысловато этот второй построил просьбу об одолжении тысячи денег у матери, что первый только изумился. И дальше оно покатилось, минуя здравый смысл, даже элементарный трезвый расчет. Оставалось только подчиняться некому невидимому постановщику и покорно следовать дальше.
Подали небольшой металлический кофейник и две крохотных чашечки.
- Спасибо, - поблагодарил Леонид рассеянно, налил Аркадию крепчайший кофе. - Угощайся... Ты что-нибудь слышал об экстрасенсорике? - спросил он как бы между прочим, наливая темную жидкость в свою чашку.
- А то нет? У нас весь театр на биополе поведен. По видику ленту одну крутили - у-у-у! Там такая тетка сумасшедшая.
- Вот и хорошо, - снова перебил артиста Леонид. - Теперь послушай меня внимательно. Тебе предлагается роль экстрасенса.
- Ты что, в кино подался что ли? Реклама презервативов? Совместная с парагвайцами халтура?
- Нет. Не так экзотично. Все гораздо проще. Есть пожилой человек, который разуверился в официальной медицине. Он хочет, чтобы его больного родственника излечил именно экстрасенс. И все!
- Но...
- Ты что, не представляешь, как это бывает? Руки, манипуляции, отмороженный взгляд, энергия биополя, проволочные рамки, колдовские движения, тихий вкрадчивый голос.
- Я не понял.
- Объясняю по буквам. Если тебе угодно, представь, что это будет сниматься кино. Есть человек, который согласен платить за иллюзию, что тут неясного? Он хочет верить в колдовство. И при этом платит живыми деньгами.
Аркадий, глотая горячий напиток и пристально всматриваясь в глаза Леонида, молчал выжидающе. Он знал, что должно последовать более подробное объяснение. Но Леонид производил впечатление совершенно спокойного и даже скучающего человека, он говорил четко, наставительно и главное очень убежденно.
- За один сеанс, который продлится всего час, ты получишь столько, сколько в экспериментальном своем театре ты получаешь за месяц. Усёк? Ву компроне? Ферштейн?
- Вполне.
- Есть вопросы?
- Да.
- Валяй.
- Кто этот человек? Можно доверять?
- Абсолютно. Я сам бы иначе никогда не связывался.
- Хочется верить.
- Документов не спросят, отблагодарят и попрощаются. Чем не контракт?
- Когда?
- Вот это деловой разговор. Завтра в половине двенадцатого я заеду за тобой на машине. В час ты уже будешь свободен.
- У меня в одиннадцать кажется должна быть репетиция.
- А мне кажется, что ты уже отпросился.
- Хорошо.
- И вот еще что, - Леонид вытащил ручку и написал на салфетке телефон маминой квартиры. - На всякий случаи возьми этот телефон. Если я буду задерживаться, или что-то непредвиденное, к примеру, - я там буду, по этому телефону, так что звони. Чтобы была ясность.
- Лады, - сложил аккуратно листик Аркадий и спрятал его в карман.
- Где встретимся? - спросил Леонид, допивая кофе.
- А давай возле памятника космонавтам. Мне от театра недалеко, удобно. Я буду стоять на стоянке такси. В черных очках. С сумкой. Черного цвета. Чтобы легче было узнать.
- Можно без очков. Ровно в половине двенадцатого.
- 0’кей! Слушай, - прошептал вдруг Аркадий, наклоняясь к лицу Леонида. - Давай покурим? - Он проговорил это так, и посмотрел такими глазами, что Леонид вздрогнул.
- Ты чего? - отшатнулся от Аркадия.
- "Сало" есть? - прошипел артист, округляя глаза и цепляясь пальцами за рукав. - Нет! - резко ответил Леонид. - Нету!
Аркадий опустил голову к чашке и стал высасывать гущу, придерживая блюдце двумя руками.
"Сало" пошло от названная папирос "Сальве", которые почему-то были в широком ходу для приготовления смеси табака и травки. Те, кто распространял папиросы уже готовыми, всегда шли на этот, известный только «своим» словесный выверт - сало есть? Аркадий сюда в кафе "Три Я" заглянул в надежде разжиться папироской. Но Яша угрюмо помотал головой, отказал. Или у него на самом деле не было, или он просто не хотел связываться. По поведению Леонида артист заключил, что тот может помочь. Тем более, что такое бывало уже раньше.Леонид по-своему оценил склоненную перед ним голову.
- Завтра после сеанса обязательно получишь, - пообещал он ровным голосом. Аркадий посмотрел на него преданно и покорно.
- Я подготовлюсь, - заспешил заверить он. - Литературку сегодня почитаю, проникнусь, порепетирую. Все будет на высшем уровне!
- Надеюсь, - встал Леонид и, положив руку на плечо артиста, добавил очень серьезно, – иначе тебе просто яйца отрежут. Ну я побежал, у меня еще дела. Завтра в половине двенадцатого я за тобой заезжаю, Аркаша!
Леонид вышел на улицу очень довольный собой. Особенно ему нравилась и казалась убедительной последняя фраза – эдакая впечатляющая точка в диалоге между заказчиком и исполнителем. При этом краем глаза, переферическим сознанием Леонид не без удовольствия отметил, что ловким своим и выразительным уходом оставил бедного преисполненного надежд Аркадия расплачиваться за кофе.
Сумасшедшее везение, совпадения, которые следовали как подстроенные, - все это окрыляло молодого человека. Он зачем-то отдал честь постовому милиционеру, проходя мимо на перекрестке. И милиционер дружелюбно улыбнулся. Минуя мост через рукав канала, Леонид захотел плюнуть в воду. И плюнул.
Зайдя в темную арку и вдохнув густые пары лежалого мусора, кошек и гнили, он радостно пнул пивную банку и та, подскочив, ударившись о стену, угодила точно в бак.
- Два очка! - выкрикнул Леонид и подпрыгнул радостно.
Старый узкий двор был темен. Тут росли два больших дерева, штакетник детской площадки был ветх, гаражи вросли в землю, на веревках, растянутых возле гаражей и между деревьями, сушилось белье.
Пододеяльники и простыни, словно кулисы, раздвигались перед Леонидом, когда он проходил мимо, раскланиваясь невидимой публике, можно было предположить почти наверняка что откуда-то с балкона, с галерки, кто-то праздный лорнировал его выход на сцену, ловил его движения и жесты. То есть любое выступление должно иметь свою публику, стоит только начать.
Вспрыгнув на скамеечку, Леонид церемонно поклонился воображаемой аудитории и снял с головы воображаемую широкополую шляпу. В лучах прожекторов к нему летели охапки цветов. Он очень удивился, когда услышал аплодисменты. Мог бы подумать, что послышалось. Но нет, хлопали в ладоши совсем рядом. Поднял голову и увидел Ингу, идущую ему навстречу.
- Привет, - просто сказала она.
- Ты? - изумился Леонид.
- Гастроли прошли успешно? - улыбнулась девушка. - Браво!
- Как ты здесь?
- Ты что, не рад меня видеть? - забросила на плечо свою сумочку Инга и посмотрела Леониду прямо в глаза.
- Почему... Рад... Просто очень неожиданно, - спрыгнул со скамейки Леонид.
- Ну вот, то сам зовешь, а когда прихожу - говоришь, что неожиданно. Мне что, уйти?
- Нет, не уходи.
- Мы что, так и будем тут стоять?
- Извини. Входи, пожалуйста, - широким жестом пригласил Леонид Ингу к подъезду и заботливо открыл перед нею тяжело скрипящую старую дверь.
*
Алексей с забинтованной рукой лежал на постели поверх покрывала у себя в комнате. Лежал, закрыв глаза и почти не слушая жену. Она оживленно рассказывала о чем-то, по своему обыкновению перескакивая с одного на другое, и не заканчивая ни одной из начатых мыслей. Однако, когда Людмила затронула непосредственно его самого, Алексей помимо воли прислушался.
- А что, может быть он и прав, - рассказывала беззаботно жена о беседе с отцом. - Если и на самом деле все случится так, как ты предполагаешь, а все к этому идет, то надо трезво смотреть на вещи, и не упираться, как баран на новые ворота, а попробовать найти выход. Да, кое-кому будет выгодно сразу же попридержать тебя и твою защиту. (Алексей завозился на постели и застонал протяжно) Это по-человечески можно понять. Не спорь, ты и сам бы так поступил, будь ты там. Но мы может, например, сейчас и не настаивать, все равно докторская есть и они никуда не денутся, допустят. Надо выждать. Поехать, например, за границу, на преподавательскую работу. В Африку куда-нибудь, или на ту же Кубу. Помнишь, тебе же предлагали. Да, так вот сейчас самое время. Убить двух зайцев. И они будут довольны, что вроде бы защиту отменили, и нам разрядка. А вернешься, окрепнешь, материала поднаберешь, и время подойдет. Мы своё возьмем!
Людмила сидела на пуфе перед зеркалом и красила ресницы, потом принялась за тени и румяна. Критически осмотрела себя в отражении, улыбнулась, натянув и облизав свежепостроенные алые губы, осталась, по всей видимости, довольна расцветкой, и взялась за щетку, распушила свои черные длинные волосы.
- Может быть, может быть, - негромко отозвался Алексей. – Ну а как с мамой быть, если, не дай конечно бог, папа не поправиться? Трудно будет уезжать-то...
- Ну, во-первых, у нее тут еще один сын есть, - спокойно разъяснила Людмила, поднимая волосы с затылка вверх. - А во-вторых, сестра, к которой можно съездить. Кроме того, в санаторий путевку сделаем. Класс! - закончила она, и трудно сказать, к чему больше относилась эта оценка - к сказанному или к тому, что образовалось на голове.
- Это так, но... Вот если бы были внуки, маме бы в заботах легче было забыться, - проговорил Алексей.
Расческа медленно опустилась на трюмо. Людмила посмотрела на свое отражение и повернулась к мужу, накрашенное лицо ее было неестественно ярким. Алексей встретил взгляд жены настороженно. Он боялся, что опять услышит истерические упреки, обвинения, жалобы, обычно выдаваемые в таких случаях. И уже пожалел было, что затронул эту щекотливую тему. Но Людмила неожиданно пересела на кровать, ближе к нему и покорно сказала:
- А что, ты прав, Леша, я тут подумала, может быть и в самом деле нам взять малютку из этого дома, как он называется?
Алексей приподнялся, удивленно разглядывая жену. Людмила поспешно продолжила, схватив своими жаркими руками холодную ладонь мужа:
- Лучше девочку... Можно оформить как раз перед отъездом, прописать и все такое, а вернуться - уже всей семьей. Верно? Ведь ты так хотел? Я подумала, что действительно, раз уж я у тебя такая, раз уж так...
Людмила захныкала, засопела по-детски жалостливо и трепетно припала к груди Алексея.
- Ну я же не виновата, ты же знаешь, я же старалась. И врачи считают что... А потом все наладится и сама еще рожу тебе сына. Да?
Алексей гладил голову жены и не знал, что ответить, только приговаривал:
- Не плачь, Людочка, не плачь, все устроится, живут же люди.
Людмила не плакала, она не хотела накрашенные глаза размазывать, и потому лишь всхлипывала протяжно и вздыхала.
- Я все готова сделать, милый мой муж и господин, как ты скажешь, - прошептала она горячо, чтобы у Алексея и тени сомнения не осталось, это именно он предложил Людмиле то, о чем она только что говорила.
- Вот и хорошо, - согласился Алексей. - Вот и умница. Ах, - вздохнул он мечтательно. - Как хочется покоя и тишины, как хочется пожить без всей этой нервотрепки. Действительно, уехать бы куда-нибудь к черту на рога. Изменить все.
- Это ты у меня умница, - вернулась к зеркалу Людмила. – Все правильно понимаешь. Изменить все очень хочется. Сразу после похорон поедем в магазин и купим кухню новую, - сказала она так просто и обыденно, что Алексей не сразу понял о каких похоронах идет речь, и даже кивнул согласно.
Но тут же спохватился и одернул жену:
- Ты что!
- А что такого? Дело житейское. Никто от этого не застрахован. Ни мы, простые смертные. Ни академики. Ни министры…
- Люда, прекрати, прошу тебя!
- Ой, да ладно тебе, никого же нет! - отмахнулась Людмила.
- Мне показалось, что мама вернулась.
- Крестись, когда кажется. Вот, и обязательно взамен всей этой рухляди старой купим новую мебель арабскую или в крайнем случае испанскую. И спальню белую - Луи! Будет у нас божественно. Все старье надо будет менять. Здесь всё не так!..
- Замолчи, прошу тебя!
- Хорошо, я не буду. Но надо на вещи смотреть реально, - повернулась к Алексею Людмила, и в ее голосе отчетливо прозвучали моргачевские интонации. - И без того жизнь достаточно сложна, чтобы ее еще переусложнять условностями. Надо все спланировать заранее, распределить, договориться. Ремонт надо будет делать? Надо. А это не шуточное дело. Надо поэтому все предусмотреть, составить список. Ох, и заживем!
Алексей закинул руку за голову и смотрел в потолок. Людмила надевала новое платье, разглядывала себя в отражении и продолжала развивать свою мысль о том, как они заживут после смерти отца.
Елена Петровна вернувшись, помимо своей воли услышала последние фразы невестки. Ей сделалось стыдно и грустно. И потому что сын не возражал, и потому что ее могли застать на месте подслушивания, и еще потому, что в общем-то Людмилу тоже можно было понять, она говорила справедливые по житейским нормам вещи, но звучавшие почему-то убийственно цинично и кощунственно словно танцевальная музыка на похоронах.
Елена Петровна устало прошла в свою комнату, тихонько прикрыла дверь, чтобы даже замок не щелкнул, опустилась в кресло.
Людмила всегда воодушевлялась к вечеру, когда ей приходила в голову фантазия и она накладывала на себя полный макияж. Ей надо было куда-то растрачивать свою энергию и красоту. Тем более что пропадал выходной день. Она заставила Алексея встать, одеться, сама завязала ему галстук и, взяв под руку, повела в ресторан, отметить созревшее решение обзавестись ребенком.
Алексей подчинился натиску жены без всякого энтузиазма, но в общем-то и не без охоты, потому что от неопределенности, тоски и пустоты ему уже выть хотелось. А так предоставлялась возможность не выть, но выпить, отключиться. Выйдя на улицу, он уже и рад был, что все так оборачивается.
Елена Петровна посидела в тишине несколько минут, потом пошла на кухню, выпила сразу два порошка - у нее очень болела голова, в висках засела тупая назойливая боль.
- Ну что же теперь делать? - вслух спросила она, останавливаясь посреди комнаты. - Куда бежать?
Тут раздался телефонный звонок. Елена Петровна быстро подошла к аппарату и сняла трубку.
- Да, я слушаю вас, - привычно ответила она. Но в трубке уже беспомощно стучались в мембрану слабые короткие гудки.
Елена Петровна положила трубку на место и взяла лежащую тут же записную книжку. Нашла нужную страницу и стала набирать номер. Ответил женский голос. Елена Петровна начала не очень уверенно:
- Алло! Добрый день, или, точнее, добрый вечер. Скажите, это квартира Моргачевых? Да? А кто это у телефона? Очень приятно. Да, а я вас не узнала. Видите, что значит редко говорить по телефону. Евгения Филипповна, я к вам, собственно, по делу достаточно щепетильному. Нет, что вы, с этим пока все по-прежнему. Да, я о другом. Так сложилась ситуация, что нам срочно нужны деньги. Речь идет о сумме в пять тысяч. Завтра. Да. Очень. Жаль... Да нет, ничего не покупаем, разве нам теперь до покупок? Необходимо отдать одному человеку... Именно завтра, Евгения Филипповна. Иначе я вас бы и не беспокоила. Но дело в том, что в нашей сберкассе сегодня как назло санитарный день, я только что там была, а завтра выходной. Ну что ж, понимаю, извините... Да, я слушаю вас, - Елена Петровна досадливо поморщилась, но слушать все-таки продолжала, несмотря на то, что голос на другом конце провода изменился на повидлово-сладкий и липкий, вызывающий желание беседу прекратить. Евгения Филипповна, как ни в чем не бывало стала задавать посторонние вопросы:
- Скажите, Елена Петровна, дорогуша, а как вы-то себя чувствуете в данной ситуации? Как ваше непосредственное давление?
- Нормально, - сухо ответила Елена Петровна.
- Вы помните на прошлый Новый год вы надевали сережки такие зелененькие, висюлечки? Мне еще очень понравились.
- Разумеется, помню. Это мамины, изумрудные.
- Да что вы говорите? Приличная вещь. А как вы считаете, сколько они могут стоить?
- Извините, не знаю, никогда не интересовалась.
- Ну, к примеру, больше пяти тысяч, или меньше? - совсем уж напрямик без обиняков поставила вопрос Моргачева.
- Никак не меньше, - коротко ответила Елена Петровна, все еще не понимая, к чему этот разговор.
- Очень хорошая вещь, Елена Петровна, честно вам говорю, как самой близкой родственнице, потому что вы знаете как мы уважаем всю вашу семью, как к Лешеньке всей душой относимся просто как к родному сыночку. И вот если бы вы, к примеру, захотели их продать, то мы...
- Но я не собираюсь их продавать.
- Я понимаю, память и все такое.
- Да не в этом дело.
- Но вы не дослушали меня, милая Елена Петровна.
- Простите.
- Я хотела сказать, что если бы вы, к примеру, надумали их продать за разумную сумму, то...
- То деньги бы нашлись? - поняла Елена Петровна.
- Совершенно верно, - радостно согласилась Моргачева.
- Мне трудно так сразу переключиться, - через небольшую паузу призналась Елена Петровна, - я никогда не думала расставаться с ними...
- Нет, что вы, я ни на чем не настаиваю, - поспешила тут же уверить в своих искренних симпатиях Моргачева.- Просто подумалось мне, что в сложившейся ситуации нам удалось бы, как это говорят, совместить приятное с полезным...
- Ясно, - по-деловому оборвала ее размышления Елена Петровна. Я согласна. Деньги мне нужны завтра утром. Желательно до десяти.
- О чем разговор. Елена Петровна, дорогуша, конечно же будут у вас именно до десяти, - рассыпалась Моргачева.
- Но только уж вы постарайтесь не опаздывать,- попросила Елена Петровна. - Я буду ждать.
- Какие могут быть опоздания, когда вы просите, - сладко пропела Евгения Филипповна, и тут же, так как деловая часть закончилась. перешла к вопросам второстепенным.- Как там наши детки?
- Их нет, они вышли погулять, - коротко и не скрывая нетерпения проговорила Елена Петровна.
- Ну и молодцы, что гуляют, благо что погода чудесная. Обязательно передавайте приветик.
- Непременно.
- Я завтра захвачу им чего-нибудь вкусненького, - пообещала Моргачева, но перечислить вкусненькое не успела, потому что Елена Петровна терпение окончательно потеряла, попрощалась коротко:
- Всего вам доброго, Евгения Филипповна, - и положила трубку.
Она села, совершенно обессиленная на кресло и обхватила голову руками. Выпитые порошки, похоже, не действовали, потому что виски по-прежнему ломило и больно сдавливало внутри под переносицей.
"Неужели это конец? - спросила вслух Елена Петровна. - Неужели нет выхода? Неужели так безнадежно все, что я хватаюсь за какие-то махинации, связываюсь с какими-то заведомыми шарлатанами от медицины. Неужели это – всё? Как быстро прошла жизнь."
Ей не удалось отдохнуть, расслабиться, не удалось спокойно переступить только что случившийся в высшей степени неприятный и даже унизительный разговор. Телефон зазвонил снова. Елена Петровна стала замечать, в последнее время, что любые резкие звуки раздражают ее чрезвычайно. Она и раньше не любила телефонных звонков - тем более что у них в большой квартире аппарат был настроен так, чтобы звонок был слышен отовсюду, гремел изо всех сил, - а в последние дни начала вздрагивать от каждого нового звука, стала бояться прихода черных новостей.
Выждав, когда звонок прозвучит в третий раз. Елена Петровна сняла трубку. Ответа не последовало.
- Ну что ж это такое, - взмолилась Елена Петровна, - ну сколько можно? - И с удивлением посмотрела на аппарат так как именно в этот момент вновь раздался звонок. Снова приложила трубку к уху Елене Петровна, снова произнесла покорно:
- Да я слушал вас.
Но никто не ответил ей, потому что звонили в дверь.
И Елена Петровна поняла это сразу же, как только услышала повторный звонок. Она быстро подошла к двери, успев поправить на ходу прическу, открыла замок.
На пороге стоял странный человек. Невысокий, сутулый с воспаленно сияющими глазами и реденькой бородой, он переступал с ноги на ногу и прижимал к коленям громоздкий фанерный чемодан.
- Добрый вам, хозяюшка, день, - проговорил он нараспев, кланяясь и смешно сгибая свою изуродованную шрамом голову.
- Здравствуйте, - растерянно произнесла Елена Петровна, придерживая дверь рукою.
- Стало быть, я к вам, - поднял голову человек с чемоданом.
- Простите, к кому? - переспросила Елена Петровна.
- К вам... То есть, к доктору, - волнуясь, объяснил человек.
- Вы, наверное, ошиблись... Как вас пустили-то сюда?
- Я к вам, - настаивал мужчина, вцепившись обеими руками в ручку своего неуклюжего чемодана. - К доктору. Он тут живет, мне сказали, я знаю...
- Поверьте мне, я тоже знаю, кто тут живет, - достаточно строго проговорила Елена Петровна и сделала шаг назад.
- Вот, - ухватился за ее мысль человек, - правильно. К доктору я он тут...
- Здесь квартира, поймите, а вам, наверное, в поликлинику надо. Извините, - Елена Петровна попыталась закрыть дверь, но мужчина не дал ей этого сделать, поставил ногу в щель.
- Простите меня, хозяюшка, - спешно стал говорить он. – Может быть, я что-то не то говорю, но я приехал специально к доктору, понимаете, к доктору...
- Ничем не могу вам помочь, обратитесь в больницу, - резко, потянула на себя дверь Елена Петровна. - Да что ж это такое? - вырвалось при этом у нее. - Что ж это у нас происходит?
- Прошу вас, не закрывайте, дослушайте, - настойчиво проговорил странный гость. - А пришел я к Леониду Петровичу Купреянову, полковнику медицинской службы!
Когда человек назвал имя мужа, Елена Петровна, конечно же, дверь открыла, вопросительно глянула на гостя, пригласила его войти.
- Зайдите, пожалуйста... Извините меня, ради бога, но я сразу никак не могла сообразить... Я сейчас в таком состоянии... А вы - к доктору!
- Ну да, я понимаю, - оправдываясь, замялся на пороге пришедший.
- Входите, прошу вас, что же вы стоите? - еще раз пригласила гостя хозяйка.
- Спасибо, спасибо. Извините меня за вторжение, - церемонно и опасливо, словно зыбкий помост, переступил порог мужчина.
- Но только Леонида Петровича нет, он в больнице, - закрывая дверь, сообщила Елена Петровна.
- Да, да, верно... Третьего дня? - спросил вошедший.
- Что вы? - не поняла Елена Петровна.
- Я говорю, слег-то третьего дня?
- Сейчас соображу... Ой, да что ж это такое... Какой сегодня у нас день, я не помню... Какое сегодня число? - она растерянно остановилась в прихожей и готова была, заплакать от свалившихся на нее переживаний и неожиданностей. Но гость, ловко поставив свой тяжелый чемодан, проворно поддержал ее за руку:
- Не надо, вот этого не надо, хозяюшка. Зачем, пустое это. Ну не помнится сразу, и бог с ним... Где у вас водички-то взять? Там что ли? - мужчина аккуратно снял сапоги, поставил их рядком, и поспешил в кухню, проворно вернулся с чашкой воды. - Испей, хозяйка, полегчает...
Елена Петровна почему-то подчинилась этому странному человеку выпила всю воду, и ей действительно сделалось немного легче.
- Ну, зачем вы разулись? - сразу же спросила она. - У нас так грязно.
- Уж вы меня извините, я как умею, - приложил руки к груди гость, и церемонно поклонился, останавливаясь на пороге комнаты. – Ну, здравствуйте в вашем доме, здравствуйте...
Елена Петровна с чашкой в руке последовала за гостем, рассматривая его и вроде бы узнавая.
- Вы меня простите, - оправдывалась она, - но только дело в том, что Леонид Петрович уже много лет не практикует, не лечит. А вы - к доктору... Понимаете? От этого и недоразумение...
Войдя в гостиную, мужчина внимательно осматривает все, обводит пристальным взглядом, и вдруг становится на колени, лезет под стол. Елене Петровне при этом захотелось вскрикнуть. Она с трудом сдержала себя, приложив ладонь к губам. Гость вылез из-под стола, показал большой осколок стакана:
- Закатился и лежит. Вишь какое дело. А как кто наступит?
Он поискал глазами, куда бы положить осколок, спрятал в карман.
Елена Петровна виновато улыбнулась и почувствовала слабость в ногах, голова ее закружилась.
- Да вы садитесь, не стойте. Нет в ногах правды, - весело и просто сказал ей мужчина и помог опуститься в кресло.
- Извините, - спросила совсем уж беспомощно Елена Петровна, - а вы кто и откуда знаете Леонида Петровича?
- Я-то? - гость одернул полы пиджака и ответил громко. - Я сын Леонида Петровича.
Тут, разумеется, наступила пауза, потому что в голове Елены Петровны и без того гудящей от боли, вовсе помутилось, смешалось сделалось жарко и вязко. Руки ее беспомощно упали на кресло. Мужчина спохватился, разъяснил:
- Ах, да... Не в том смысла, что родной сын, вы не подумайте. Так бы я и вашим должен быть сыном... Нет, не удивляйтесь... Он мне действительно отец родной, даже больше, чем отец. Он меня заново родил на свет божий! Вот. Создал, значит, заново искусством своим. Да...
Гость, словно спохватившись, вышел проворно в коридор, вернулся с чемоданом, водрузил его на стол, и прежде чем открыть, спросил участливо:
- Ну как он там?
- Кто? - не поняла Елена Петровна.
- В больнице-то, Леонид Петрович как?
- Плохо ему, очень плохо. - не удержалась, заплакала Елена Петровна. - И главное, врачи считают, что уже никакой надежды нет, что надо только ждать...
- Я так и знал. И говорю Нюре, жене своей, все, говорю, не могу больше, поеду... Да, зовут меня Степан Спиридонович, фамилия моя Авксентьев... Может быть слышали? - с надеждой спросил гость, глядя в глаза хозяйке,- может быть рассказывал Леонид Петрович?..
- Извините, не помню... Лицо ваше кажется мне знакомым, но...
- Ладно, таких как я, Степанов, у доктора, поди тысячи, не беда, - просто отмахнулся Авксентьев, приступая к своему багажу.- Вот тут кое-какие гостинцы наши, что захватил в спешности. Грибочки. Клюква, рыбка. А это травки. Я помню, Леонид Петрович сильно ими интересовался. Все меня про Ефросинью, дочь пчельника расспрашивал, про муромскую-то... Да, - выкладывал свои подарки на стол Степан Спиридонович, аккуратно доставая их один за другим из чемодана.- А вот эти две травки черные, но вы де подумайте, что порченные они, нет. Такое уж у них свойство, чернеют, не могут дня белого переносить, злые... Но зато и лекаря нет лучше, чем они...
Авксентьев любовно рассматривал и разглаживал пучки и мешочки, словно забыв о том, где он, какой проделал путь, как его встретили. Елена Петровна до сих пор не могла прийти в себя от неожиданности, от обилия свалившихся на нее впечатлений. Но главное среди всех остальных звенело в голове колоколом, не давало услышать все прочее. И она спросила, перебивая гостя:
- Почему вы сказали "я так и знал"? Что вы знали?
- Это вы о чем?
- Ну вот недавно, когда я сказала, что ему плохо, вы сказали, что знали это. Верно? Я не ослышалась?
- Верно. Сказал.
- Почему?
- Тут такое дело... Почему? Не то, чтобы я точно знал... Но... Это не так-то просто объяснить, - замялся Авксентьев, - перекладывая пучки травы с места на место.
- Вы перестаньте шуршать этой травой и сядьте, - велела Елена Петровна строгим голосом.
Степан Спиридонович убрал чемодан и послушно сел на стул.
- Вы постарайтесь объяснить. Я пойму. Мне важно это понять, потому что у меня очень болит голова, и мне кажется, что я начинаю сходить с ума.
- Нет, что вы, - выставил вперед руки Авксентьев, - вы очень даже не похожи на сумасшедшую.
- Спасибо. А вы их много видели?
- Кого? Психов-то? А как же. Меня ж тоже пытались лечить вместе с ними. Много лет пытались, но все…
- Послушайте, как вас?
- Степан Спиридонович, - встал привычно Авксентьев,- рядовой.
- Сядьте, пожалуйста. А если не так по-военному.
- Можно просто Степаном.
- Скажите, Степан Спиридонович, вы откуда приехали? Издалека?
- Издалека, ага, - подтвердил гость, кивая головой.
- И что же вы, звонили, прежде чем приехать? – продолжала спрашивать Елена Петровна.
- Зачем звонил? Я не звонил, - ответил Авксентьев. И тут же Елена Петровна ухватилась за эти слова:
- Так как же вы узнали, что Леонид Петрович в больнице, кто вам сказал?
Вопрос был поставлен так решительно, что Степан Спиридонович, качая головой и сжимая сцепленные руки, ответил очень серьезно, негромко, но с расстановкой:
- Да, я не звонил... И мне никто не звонил. И вообще у меня телефона нет. Он у нас только на почте, да… Вы успокойтесь, пожалуйста, я постараюсь все вам рассказать сразу, чтобы потом вопросов не оставалось. А где дети ваши? - вдруг спросил он.
- Дети? - переспросила Елена Петровна. - Разбежались дети.
- Я это к тому, что, думал, может лучше, сидеть чай пить, разговоры разговаривать, чем так-то вот... Давайте, я скоренько заварю, с травками...
И, не дождавшись возражений, или советов, Авксентьев легко поднялся и скрылся в кухне, загремел там крышкой чайника. Скоро вернулся и доложил Елене Петровне:
- Чистота у вас. Поставил я чайничек, тот, что в горошки. Ладно ли сделал?
- Ладно, - кивнула Елена Петровна.
- Ну вот. Вскипит, чаевничать станем. Вы с чабрецом и с душицею пьете?
- Нет, Степан Спиридонович, мы просто чай пьем, иногда с молоком, - ответила Елена Петровна, успокаиваясь постепенно и отогреваясь возле хлопотливого этого и странного человека.
Домашним, нестоящим чем-то заполнил он квартиру, уверенностью и домовитостью незыблемостью необъяснимой задышало все вокруг него. А может быть это распространились ароматы трав и сушений ягодных, грибных. Но помимо всего прочего узнаваемого, что-то появилось незнакомое волнующее и странное в воздухе квартиры.
Елена Петровна не узнавала своего дома, но с радостью понимала, что вместе с этими новыми незнакомыми запахами и звуками, в нее проникает странное живительное спокойствие, всепобеждающее, неодолимое. Она не могла бы описать все это словами, но смотрела на простое доброе лицо нежданного гостя, на глубокий рваный шрам, прилепившийся к правому виску и захвативший часть лба, и чувствовала к человеку этому расположение, чувствовала, что не лжет он, не лукавит, не выгадывает, не плетет хитрых словес, а потому и отогревалась возле него, возле речи его журчащей плавно и гортанно, убаюкивающе.
- Травы, они и есть самый сок здоровья. Они ж - сила. Чай пить - здоровым быть. Это ж про наши чаи сказано. Вот взять Иван-чай. Знаете такую травку? В покос издавна у нас только ее и заваривают. Свежа, пахуча, ядрена.
- Степан Спиридонович, - постаралась вернуть его к своему вопросу Елена Петровна. - Вы хотели рассказать...
- Да, почему я приехал-то. Ну что ж, слушайте...
Авксентьев чуть склонил голову набок и, глядя на кончики своих пальцев, сосредоточенно рассказал все подробности своего ранения в голову, поведал о том, что полковник Купреянов удивлялся, как вообще с таким ранением человек выжить умудрился. В тыл отправляя, предрекал сто лет жизни. Рассказал о мучениях, о немыслимых болях, мыканиях по госпиталям, когда раскалывалась голова, когда единственное спасение виделось в смерти, не утаил и о том, что все эти годы кололи его, чтобы облегчить страдания, про фельдшерицу упомянул, Софью Тимофеевну, вспомнил мальчика этого недавнего, с которым в вагоне ехал, героя и жертву сегодняшних войн, к чему-то. Все выложил начистоту.
- Да, а вот аккурат восемь годов назад, когда я и надежду уж потерял избавиться от постоянной боли, вдруг во сне увидал я травиночку, маленькую такую, светленькую с голубыми цветочками, в наших краях она не водится. Увидал, и стало ясно мне - в ней мое спасение! Вышел из дому среди ночи и бегом побежал, себя не помня, к ней, к спасительнице, значит, своей... Догонял я ее, вроде. И со всего маху упал я в овраг. Да… Потом, когда оклемался маленько – чую, голова чистая, словно иголку из нее вынули, боль прошла - как праздник светлый настал. И с тех пор не болела так больше. Но другое стало приключаться: стал я видеть отчетливо, как на фотографии, или, как в телевизоре, кого-то из близких. Видеть наяву, хотя он и за много километров от меня. Вижу, и понимаю, что случилось с ним, меня та же боль, что и его охватывает: заболел он там, или горе какое... Вижу, словом, что нуждается человек в помощи, и что я помочь, значит, могу. Штука вся в том, что я точно вижу, как можно ему помочь, чем. Первым Ивана Прошкина увидел – мы с ним вместе по госпиталям много лет кочевали, сроднились как бы. Умирать он видите ли тогда собрался. Да, поехал я к нему. Он и не признал меня в начале-то, сгоряча. Теперь, - письма пишет, в третий раз дедом стал. Потом сестренку свою увидел, младшую, она с мужем под Астраханью-городом живет. Потом... Да многих стал я видеть. А тут вдруг давеча - доктор, в белом халате и лицо такое белое, палец к губам приложил, мол, тихо, солдат... Я Леонида Петровича очень люблю. Сколько уж лет прошло? Почитай вся жизнь… А я словно все в том дне пребываю, словно мы и не расставались, помню, как улыбается он, как сто лет жить велит... Шутка ли, голову заново приделал... Ну вот... Стало ясно мне, что плохо ему, сердце мое заныло, сжалось все, кореньев медвяных запросило. Поехал. Вот я здесь...
Авксентьев прислушался к странному звуку - из кухни доносился тонкий мелодичный свист.
- Никак чайник голос подает? - догадался старый солдат. - Вот и славно, вот и вовремя, - он поднялся по-хозяйски, пошел на зов.
Елена Петровна, как загипнотизированная, сидела во время всего рассказа Степана Спиридонов молча. Она вроде бы слушала, вроде бы все понимала, но в то же время ничего взять в толк не могла, все ей казалось нереальным, чуть ли не сновидением. И потому, когда появился в дверях Авксентьев, ловко прихвативший чашки, блюдца и чайник, хозяйка встретила его вопросом неожиданным:
- Простите меня, ради бога, Степан... ммм... Спиридонович, можно я вас потрогаю?
- А как же, вот я тут, - ничуть не удавился просьбе Авксентьев,- трогайте. А счас и чаек поспеет...
Елена Петровна осторожно прикоснулась к руке Степана Спиридоновича и заплакала.
- Значит вы есть на самом деле? Значит мне не кажется? – сквозь слезы спросила она.
- Похоже, так оно и есть, - отделял Авксентьев от пучков травинки и бросал их в чайник.
- Но этого же не может быть! - заявила неуверенно Елена Петровна.
- Вот те на! - удивился гость.- Как так?
- Вы увидели во сне, что Леонид Петрович заболел, правильно я вас поняла? - спросила Елена Петровна очень серьезно.
Степан Спиридонович кивнул согласно:
- Можно считать, что во сне, хотя это и не совсем так... Но в общем похоже...
- Увидели чем он заболел, и даже знаете как ему можно помочь, верно?
- Точно так. А что?
- Как что?! Вы так спокойно это говорите... Вы знаете, что консилиум лучших врачей во главе с академиком признал положение безнадежным, мне так и сказали... Что я даже в церкви была, молилась. А тут вы...
- Ну я же предупреждал, что объяснить это трудно, что лучше не рассказывать ничего...
- Извините, а документы у вас есть? - опросила Елена Петровна.
- Да, паспорт с собой. Показать? Только там ничего не написано про мое ранение, - Авксентьев порылся в своих карманах и протянул документ хозяйке. Елена Петровна трясущимися руками взяла книжицу и, не понимая зачем делает это, развернула ее.
- Господи, как у меня болит голова, - выдохнула она. - А почему он у вас такой старый?
- Так и я сам уж немолодой, - ответил Степан Спиридонович и добавил, - а голова ваша сейчас мигом пройдет, вот испробуйте.- Он осторожно, придерживая крышку рукой, налил из чайника в чашку зеленовато-коричневую жидкость.
- Я кажется заболела, - вернула паспорт, так ничего в нем и не увидев, Елена Петровна. – Я уже ничего не понимаю. Решительно. Ведь всего того, что вы говорите не может быть!
- Да я и сам думаю порой, что что-то тут неладно. Ведь вижу я только родных да близких. А другой раз и наоборот сомневаюсь - а как же иначе жить-то можно, если не любить, к примеру?
Елена Петровна почти не слушала своего гостя, она раскачивалась на стуле и улыбалась странно.
- Дети отрекаются, - произносила она глухим голосом, - становятся чужими. Друзья отворачиваются и предают. Доктора бессильны. Подступает конец, с которым надо смириться тихо. И тут является раненный в голову Авксентьев, рядовой, который проехал тысячи километров только потому, что...
Елена Петровна остановилась, посмотрела на Авксентьева внимательно, словно поймала себя на какой-то догадке.
- А зачем, собственно, вы приехали?- спросила она.
- Дак больно было мне очень.
- Вам?
- Да.
- Ничего не понимаю, - уронила голову на руки Елена Петровна.
- Но я же объяснил, - спокойно продолжил Степан Спиридонович, - что когда вижу кого-то, его боль чувствую как свою, потому-то и знаю, как помочь и чем... Иначе бы я не ехал я бы прост умер...
- Вы хотите сказать...
- Голубушка, - нежно взял руки Елены Петровны в свои Авксентьев, - выпей чайку, прошу тебя. Полегчает тебе. А я пока поговорю. Слушай вот.
Он подставил чашку с пахучей пряной и пьянящей жидкостью ближе к Елене Петровне, чуть ли не вложил ее в руки, заставил сделать глоток.
- Не горячо? - заботливо, как у больной, спросил. - Нет? Вот и славно, пей давай, душа-человек. И я с тобой.
Он сел напротив Елены Петровны на стул, на самый краешек, взял чашку двумя руками, поместив ее в гнездышко из ладоней, стал отхлебывать горячий напиток шумно и аппетитно.
От мерного ли говора гостя, или в самом деле от живительных соков трав, но только скоро Елена Петровна почувствовала себя лучше, голова ее прояснилась и приятная теплая усталость медленно стала разливаться по всему телу.
Авксентьев же тем временем рассказывал:
- У нас в роте, а я в разведке служил, собачка была плюгавенькая такая, смешная куцехвостая, никто толком не знал, откуда она к нам приблудилась, посмеивались все над нею, но любили, подкармливали. Как на задание, значит, идти, она обязательно увязывалась с нами. Поначалу ее гоняли, привязывали даже – мол, тявкнет где не к месту, и привет. Она же всё равно всегда догоняла и печально смотрела в глаза, как бы просила прощения, что не может поступить иначе. Она возле минного поля всякий раз останавливала ведущего и сама шла вперед, аккуратненько всех проводила по самой безопасной тропочке. Чутье у нее было какое-то особенное на мины. Эх, сколь жизней она спасла, ежели посчитать. В других ротах так, почитай, в любой выход кого-нибудь не досчитывались, а у нас... Ее так и прозвали - Мина. Командир спецпаек ей определил. Год она у нас побыла...
- А потом? - невольно поддавшись рассказу, спросила заинтересованно Елена Петровна.
- Известно. Война, - ответил Авксентьев и долил в чашки горяченького.- Она никого не щадит... И чего я ее вспомнил? - Мину-то нашу, - сам себя спросил Степан Спиридонович и с удовольствием отхлебнул из полной, чашки. - Бог ее знает, - сам себе же и ответил. - А верно говаривал дед мой - чай пить не дрова рубить. А? Как чаек?- обратился он запросто уже к Елене Петровне.
- Замечательный, - приветливо улыбнулась та.- Никогда такого не пила, даже не знаю, с чем сравнить. Бальзам, быть может...
- Елена Петровна, мне очень важно, чтобы вы поняли меня правильно и поверили мне, - проговорил спокойно, но очень серьезно и весомо Авксентьев. - Никакой опасности в том, что я приехал, нет ни для вас, ни тем более для Леонида Петровича. И предосудительного тут нет ничего. Вы слышите меня? Я говорю вам это затем, что теперь вы должны помочь мне помочь доктору.
- Да, я слышу.
- Это очень важно, Елена Петровна, поймите. Я и сам толком не скажу, как оно все будет, но только надо верить, что все обязательно будет хорошо. Все будет просто здорово. И мы еще с доктором чайку попьем, и на рыбалку еще съездим... Сам я к нему не пойду. Это пока не нужно. Да и не вспомнит он меня, скорее всего. А лишние волнения теперь ему зачем? Но я вам дам кое-что, и расскажу каким образом потчевать. Оно у меня здесь. Все проверенное, этими самыми руками собранное... Вы меня понимаете?
Елена Петровна очень отчетливо и ясно слышала голос старого солдата, отлично понимала каждое его слово, только удалялся он постепенно, уходил куда-то, затуманивался.
- Сейчас вы поспите, а раненько, до света проснетесь и сразу туда, к нему. Настой вместе с солнышком войдет в него, и поднимет, и залечит боль-рану... Вы слышите меня, хозяюшка, голубушка?
Авксентьев помог Елене Петровне подняться, отвел ее в спальню, уложил, накрыл пледом. Она сразу же уснула тихо, по-детски глубоко.
- Ну вот и славно, - вздохнул Авксентьев.- Тоже намаялась бедная душа... Ох-хо-хо... Вот я и приехал, доктор. Ты потерпи маленько.
Он прибрал все в комнате, аккуратно составил стулья возле стола, погасил везде свет и сел возле спящей Елены Петровны на свой старый чемодан.
*
"... День моего вступления в должность начальника полевого госпиталя ознаменовался печальным событием. Стояла жара, температура даже ночью не опускалась ниже двадцать пяти. днем де парило немилосердно. Житья не давали мухи. Мы по три раза в день делали перерывы и посыпали порошком дуста. Но ничего - не помогало, через полчаса опять полчища мух над ранеными взвивались тучей, как и раньше. Все коридоры и классы в занятой под госпиталь школе были переполнены ранеными. Около трёхсот тяжелых, еще больше с ранениями средней тяжести. Проклятые мухи садились на газовые раны потом на чистые. Санитары не могли справляться с таким объемом перевязок. Неизбежное следствие - появились черви. Снимаешь с раны повязки - под ней ползают, копошатся. Любой врач знает, что личинки эти безобидны, даже в каком-то смысле полезны - пожирают активно мертвый материал с поверхности раны, помогают очищать. Но почти всех бойцов черви пугали до отвращения. И один молоденький солдат, когда увидел на себе - у него было осколочное рваное ранение бедра – скопление червей, не выдержал, оттолкнул санитарку, закричал дико: "Братцы, они нас специально отравляют, чтобы в тыл не везти"! Вскочил и ринулся бежать по коридору. Случилась паника. Весь этаж пришел в волнение. Начальник хирургического отделения Н. выйдя из операционной, разговаривал с представителем штаба о готовящемся переезде на новое место, возбужденная толпа раненых смяла санитаров и ворвалась в директорский кабинет, где располагалась операционная. Кричали что-то неразборчивое, но вид у всех был страшен – сорванные бинты, окровавленные и грязные развевались, как знамена. Офицер штаба выхватил пистолет и выстрелил в молоденького бойца, оказавшегося впереди всех. Убил наповал "паникера и провокатора". Волнение быстро улеглось. Офицера должен был судить трибунал, но вышедший приказ Сталина №. 227 оправдал его действия. Переведенный в другую часть, он продолжал всевать. А того солдата, что истерически испугался червей, похоронили вместе с другими умершими в братской могиле.
Я принимал в тот день новый транспорт с ранеными, и узнал о случившемся только к вечеру. Взял Н., с ним пошли в спортзал, где сосредотачивалась основная масса наших пациентов. Встретили нас взглядами настороженными, примолкли. Я стал рассказывать все о жаре, о мухах и о роли личинок. Старые бойцы, перенесшие уже не одно ранение, подтвердили, что не было еще смертельных случаев от мух, а вот от паники и истерики - сколько угодно. В который раз убедился, что правда сказанная в глаза убеждает сильнее всякой силы..."
Леонид Петрович никому даже в семье не объявлял о том, что начал писать воспоминания, или как он их сам называл «записки фронтового хирурга». Но когда они с Еленой Петровной отдыхали в санатории, их сын Леонид случайно обнаружил толстую общую тетрадь в верхнем ящике письменного стола в кабинете отца. Несколько страниц прочел с удивлением и тайным удовольствием: вдруг узнал об отце то, чего тот сам никогда не рассказывал. Но потом стало противно - столько крови, грязи, столько смертей чуть ли не на каждой странице. Казалось, отец специально вспоминает всех, кто умер у него на столе, под ножом, или даже просто в его госпитале, описывает подробно ход операции, технические подробности борьбы с ранением - чтобы оправдаться или смягчить свою вину. Леониду было уже семнадцать, когда он познакомился с тетрадкой, но не сумел он понять главного в ней, не сумел заглянуть в душу отца, страдания которой и вызвали к жизни эти записки. Не смог сын задуматься над тем, почему осталась в памяти военного врача столько имен, столько судеб, почему он помнил все случаи смертельных исходов, хотя сделал за годы войны тысячи операций. Стало быть, спасенных и вылеченных было гораздо больше, чем умерших. Леонид тогда брезгливо отбросил тетрадку, будто она сама была пропитана кровью. Его больше привлекла коробка папирос из того же ящика стола. И еще тогда же созрело решение ни в коем случае не поступать в медицинский.
"Мясником быть? Ни за что!»
С трудом выкраивая время в основном по ночам, Леонид Петрович упорно продолжал писать свои "записки". К одной тетрадке прибавилась вторая, затем третья. Что это было? Мемуары видного отраслевого руководителя? Или простое человеческое желание в определенном возрасте остановится и оглянуться назад, попытаться разобраться, чем ты жил, что оставляешь после себя. Не задумывался о прикладном значении своего труда писательского Купреянов. Душа его требовала выхода, звала память, и он день за днем восстанавливал те страшные годы, исписывая страницу за страницей. Помнилось все. Всплывало перед внутренним взором в мельчайших подробностях. Как молодым аспирантом был призван в мобилизационную комиссию. Через его руки, через его "годен" прошли тогда тысячи и тысячи будущих воинов, с которыми, может быть, довелось потом встретиться уже на фронте. Куда отправился он хирургом ДГ, дивизионного госпиталя. Потом командовал хирургическим отделением ППГ, подвижного полевого госпиталя, был начальником госпиталя, главным хирургом армии. Сотни, тысячи человеческих жизней в горниле войны проходили перед врачом и не тускнели с годами, не затушевывались временем наоборот, приобретали четкость, рельефность, становились как бы камертоном для всего, что делал потом, чему служил. Об этом и писал.
С особенной болью и горечью вспоминал Леонид Петрович о своих ошибках, о недостатках полевой медицины вообще, о бессилии человека и специалиста медика перед всесокрушающей машиной войны.
И ни слова не писал он о том, что выполнял свой воинский долг, что вместе со всеми ковал победу, что встретил ее орденоносцем в поверженной Германии. Писал только о работе, только о раненых, о ранениях, о быстрейших и надежнейших способах лечения солдат, о том, что стало практической его диссертацией, монографией и степенью. Тетрадки до сих пор лежат в столе.
« ... Был налет. Ранило Б.Н. Приходится теперь оперировать и его контингент, с "черепами". Хорошо, что доводилось до этого ему ассистировать. Довольно успешно провожу трепанации, сестры отличные, с богатой практикой, хвалят. Работаем по всем правилам асептики. Думалось раньше, да наверное, многие и поныне так считают, что оперировать конечности, полости легче чем голову. Подумаешь, ранен в ногу! Ну, иссечения для борьбы с анаэробами, с газовой флегмоной, иммобилизации, шины Дитерихса, в крайнем случае ампутации. Откачивание гемотораксов, ушивание пневмотораксов, постоянные лэпаротомии и прочая мясницкая работа. Отчего бы тут больному умирать? - руки, ноги, это ж не голова! Распространенное заблуждение - раз поврежден мозг, проникающее ранение черепа, значит особо тяжелое ранение, и можно все описать на войну. Мол, от доктора тут уж мало что зависит. В действительности же наблюдается очень важное качество мозга - он удивительно устойчивый орган, даже инфекции на нем не бывают такими убийственно-злыми, как в животе, груди или суставах. Есть, конечно и свои осложнения, но при всех прочих обстоятельствах, мозг поразительно самозащищен. Практика показывает, что застрявшие в мозговом веществе пули или металлические осколки лучше не извлекать, они со временем хорошо обрастают соединительными тканями и не содержат смертельной угрозы, так как мозг их надежно изолирует. Помню привезли раненого. Могучий молодец, отличная мускулатура груди, рук, сибиряк откуда-то из Забайкалья. Кроме ранения головы, обширнейшая рана на боковой поверхности груди, по всей видимости крупный осколок прошел по касательной. Разорван большой участок кожи, мышц, пять ребер пересечены, раздроблены, зияют живые дышащие легкие, лохмотьями кровяных сгустков забито все вокруг. Тампонируем плевральную полость, ушиваем пневмоторакс, удаляем осколки костей, накладываем тугую повязку на укороченные ребра. Приступаем к голове. Сестра размотала повязки, подготовила рану. Военная нейрохирургия была не слишком сложна. Согласно "Единой доктрины военно-полевой хирургии» нужно было сделать самое главное - разобраться в ранениях, рассортировать раненых, и убрать пищу для микробов. Доктрина предписывала отправлять всех с черепными ранениями в спецгоспиталя в распоряжение исключительно нейрохирургов. Старались так и делать по мере возможности. Осмотрев рану, выкусываешь щипцами кость вокруг того места, где черепная коробка пробита осколком или пулей, рассекаешь мозговые оболочки, удаляешь гематому, выбираешь костные осколки из вещества мозга. Все. Можно бинтовать, отправлять».
*
Мерцала в темноте свеча. Теплым колеблющимся светом была наполнена комната, живые желтые блики плясали на коже Инги. Она сидела, прислонившись к стене, скрестив по-турецки ноги и листала страницу за страницей большой книги. Леонид лежал рядом, раскинувшись на махровой простыни и поглядывал на девушку.
Инга нравилась ему. С ней он чувствовал себя уверенно и просто. Растерянность и смущение от неожиданного ее появления во дворе прошли очень быстро, их как и не бывало. В квартире Инга очень живо и естественно заинтересовалась книгами, старыми изданиями, прошла везде, потрогала все руками. Остановившись возле дивана, склонила головку чуть набок, задумалась.
- Интересно, а он раздвигается? - спросила.
- Да, - ответил Леонид.
- А ванна там? - пошла она по коридору, нажимая подряд все кнопки выключателей. - Угадала, - доложила, открыв нужную дверь и скрываясь за ней. Послышался шум воды и плеск, тихое пение.
Леонид долго не мог унять дрожь в пальцах, пока раздвигал старый диван, пока застилал постель. А потом вышла закутанная в полотенце Инга, плавной танцующей походкой подошла к нему и положила руки на плечи.
- Наверное, в предыдущей своей жизни я была лягушкой, - сказала без улыбки. - Так воду люблю...
- Может быть русалкой, - прошептал Леонид и поцеловал девушку. Она, отвечая на поцелуй, привстала на цыпочки и глаза закрыла. А приоткрытые ее губы были горячи и податливы.
- А кем был ты? - легко отстранилась Инга.
- Я скорее всего из отряда чешуйчато-полостных или ложносетчатокрылых, - торжественно ответил Леонид и понял, что шутка удалась. Инга весело улыбнулась и забралась с ногами на диван.
Покачиваясь на скрипящих пружинах, она стояла на краешке. Леонид приблизился к ней, обнял, она прижала его голову к своей груди, потом, впившись пальцами в волосы, склонилась к нему и поцеловала так, что дальше уже терпеть было нельзя, просто не было сил. Никто живой бы не выдержал. Она засмеялась, когда он запутался в полотенце, и сама помогла себя распеленать.
- Ну, поплыли, - прошептала.
Леонид трудно сходился с женщинами, словно карабкался по скалам, презирая себя за ненужную слабость и деликатность, но и не умея быть более настойчивым, агрессивным.
Инга все делала так именно, как он бы хотел, говорила то, что было нужно именно теперь и в каждом жесте, в каждом движении и слове она помогала ему, словно прочитывая заранее его сомнения или колебания, освобождая от них. Она брала часть ноши на себя, облегчая тем самым его движение. И потому с первого же слова, с первого же поцелуя Леонид проникся благодарностью к девушке, к женщине, которая и не скрывала своей опытности, умело направляла его усилия в том направлении что сулило радость обоим, обволакивала своим спокойствием и естественностью. Леонид не знал раньше таких женщин. Он с восторгом принимал ее ласки, погружался в упругий и податливый ритм гармоничного слияния, сам становился сильнее и увереннее в себе. Красивая, грациозная, изящно-развратная, она была словно специально создана для любви. И каждой клеточкой своей, каждым изгибом, каждой порой проникала в Леонида, заполняя его, возбуждая и рождая в нем новую, неведомую доселе энергию жизни.
Прежде чем они в три заплыва преодолели озеро ночи, Инга, выгнувшись, подняла вверх смуглую свою ногу, любуясь ею, сказала:
- Ножуля-красотуля… У лягушки кривули нушки.
Леонид поцеловал ее в нежную ямочку на лодыжке и произнес, себя уже не помня, в истоме и угаре:
- Если ты была там лягушкой, то я хочу быть только лягухом...
Она засмеялась заразительно и оседлала его верхом:
-Лягух, бух-бух! Освежите меня яблоками. Подкрепите меня вином, ибо я изнемогаю от любви...
Потом она нашла на подоконнике огарок свечи и зажгла.
- Совсем другое дело, - прошептала,- живое пламя, как живая жизнь...
Ее ладони просвечивались розово насквозь. Леонид лежал распластавшись, ни о чем не думая, блаженствовал и единственное реально опознанное чувство в нем было чувство голода. Ох, с каким удовольствием он бы съел сейчас целую холодную курицу или просто бутерброд.
Инга возилась со своей сумочкой. Бросала лукавые взгляды.
- Покурим? - тихо спросила она, присаживаясь на диван. Она извлекла серенькую коробочку и открыла ее. Там лежали пять тонких белых сигареток. Одну взяла себе, вторую протянула Леониду.
Он знал о таких, но никогда еще не пробовал. При этом почему-то ничуть не удивился, что они у Инги в сумке. Чистые.
Леонид смотрел, как девушка наклонилась над свечой, придерживая сигаретку двумя пальцами, как она жадно втянула дымок, как села спиной к стенке и закрыла глаза. Он сам прикурил, втянул первую дозу коротко для прочистки, ощутил горьковатый, резкий, холодок на небе и желание закашляться. Проглотил слюну и сделал глубокую, как только мог, затяжку, вбирая в себя горячий сладкий дым. Почувствовал покалывание в глотке и нарастающий шум в ушах. Медленно выпустил воздух через нос и затянулся снова. Руки словно отделились от него, волна холода прошла по затылку, скатилась как водопад, по груди, ногам и затаилась в ступнях. А потом уже стало плавиться стекло: все задвигалось перед глазами, все стало гибким, текучим, неосязаемым. В огромном мягкопружинистом гамаке полетел он над желтыми холмами. Порхали не то бабочки, не то паруса вокруг, на многочисленных горизонтах высились стройные шпили, а на них сушилось белье. Потом оранжевая волна смывала все это и вырастали толстые дурманящие цветы на подобии подсолнухов, они раскачивались и гудели, а он в гамаке маленький, как шмель, пролетал мимо и видел в одном из цветков сидящую на стуле маму, а в другом цепляющегося за лепестки, но постоянно соскальзывающего отца. Он был неестественно розовый, как голая кукла, рыгал и пищал. Зрелище было очень неприятным. Постепенно цветы удалялись, растворялись и скоро осталось только мерное колыхание, - будто на палубе яхты в открытом море... Леонид открыл глаза. Свечка постепенно догорала. Инга сидела на корточках в углу и возилась с проигрывателем. Поставила пластинку и щелкнула кнопкой пуска. Родилась странная музыка, плывущая, растекающаяся, ее прерывистый ритм, казалось, рождался на глазах, точнее, словно бы создавая сам себя. Инга стала танцевать под эту музыку - она извивалась, переступала, взмахивала руками, покачивалась, улавливая ритмические закономерности, отдаваясь им. Мужской голос пел: "Сидя на красивом холме, я часто вижу сны. И вот что кажется мне: что дело не в деньгах и не в количестве женщин, и не в старом фольклоре, и не в новой волне. Но мы идем вслепую в странных местах. И все, что есть у нас - радость и страх, страх, что мы хуже, чем мы можем, и радость того, что все в надежных руках"...
Леонид смотрел перед собой, ему казалось, будто он видит все и слышит, но в то же время он никак не мог отделаться от ощущения, что и блики эти теплые на матовом обнаженном теле, и голос сплетающийся с замысловатой мелодией, и колеблющееся пламя свечи - все это часть недавнего полета, его парения, что это просто его продолжение.
Инга, как свеча, белая, тонкая и живая, оплывала, тихо двигаясь, кружилась вокруг огня, или это комната кружилась вокруг нее?
"И в каждом сне я никак не могу оказаться, и куда-то бегу, но когда я проснусь, я надеюсь, ты будешь со мной» - закончил голос песню, и музыка угасла. Инга легла рядом, нежно шевелящимися пальцами тонких ладоней провела по холодным ногам Леонида, по животу, груди, по лицу, и затихла, мелко дрожа, согреваясь... Леонид прислушивался к ее дыханию и не мог определить, дышит она или нет. Ему почему-то стало страшно, - такая вдруг наступила тишина, сплошная, густая, нереальная.
И он открыл рот, произнес тихо:
- А!
Голос прозвучал сдавленно и хрипло, но тишина побежденная, отступила, вновь расположились вокруг знакомые живые звуки - шипел проигрыватель, поскрипывала пружина, что-то ухало за окном и отзывались в висках толчки Ингиного сердца. Через несколько минут Леонид почувствовал, как она отодвигается от – него, как сворачивается в клубочек и закрывается с головой одеялом. Он попытался найти ее руку, взять, но она высвободилась настойчиво, не далась.
Тогда Леонид встал, завернулся простынею, вышел на кухню, нашел кусок хлеба, сыр, стал жевать, запивая водой из чайника. Утолил голод, вернулся.
Инга сидела на диване, закутавшись так, что лишь одна голова виднелась и рука с дымящейся сигареткой.
- Ты правильно сказал, что ты чешуйчато-полостной, - проговорила девушка, и Леонид не узнал ее голоса. Он изменился, будто свет и звонкость выкачали из него, угас сник, сделался ровным и гладким, как асфальтовая дорожка. Да и взгляд Инги, уперевшийся в одну точку - в пламя свечи - стал каким-то жестким, отстраненным. -Тебе и это подсказали, - не то спросила, не то усмехнулась она. - Ты весь на ниточках, куда дернули, туда и летишь...
- Ты о чем? - опустился перед девушкой на колени Леонид, стараясь поймать ее взгляд.
- Я о тебе, смешной, - проговорила Инга и медленно сжала сухими губами краешек тонкой папироски, втянула в себя воздух.
Красный огонек на кончике вспыхнул и разросся, испустил голубоватую струйку. Девушка задержала дыхание и замолчала.
- Но кто меня дергает? - спросил Леонид недоумевая и в то же время чувствуя, что ожидал именно такого развития событий, что обязательно отзовется аукнется их знакомство за спиной Лохвицкого.
Инга молчала, едва заметно покачиваясь взад и вперед.
- Это кто, драматург что ли? - выдавил из себя догадку Леонид, чувствуя закипающее раздражение. Даже упоминание имени Лохвицкого было неприятно ему теперь, рядом с Ингой, оно оскверняло их близость, унижало Леонида.
- Не шипи, - произнесла медленно Инга, глаз не открывая.
- Но ты его имела в виду? - настаивал Леонид.
- Я вас всех имела в виду! - с расстановкой сказала Инга.
- Что ты еще хотела мне сказать?
- Еще хотела я сказать, что можешь долг не возвращать,- пропела
И Леонида словно холодной водой окатило – его предчувствия оправдывались.
Он сжался весь, напрягся, стараясь не выдать себя, спросил как можно спокойнее:
- Почему?
- Потому что потому, все кончается на "у".
- Это он просил передать?
- Ыгы...
- Что он хочет? - сквозь зубы прошептал Леонид.- За это...
- Коробку дефедрина, сто упаковок, достань. Тебе ж просто, родственников ублажи...
- Все?
- Нет, еще мы к мамочке пойдем, расскажем подробности... Если..
Леонид не сдержался и наотмашь ударил Ингу по лицу. Она лишь на мгновение вскинула удивленно брови, но тут же и забыла об этом, снова затянулась глубоко.
- Сука, - вырвалось у Леонида.
Он вскочил и забегал по комнате, расшвыривая все на своем пути. Наступил на пластинку. Инга сидела недвижно и не замечалпа происходящего.
- Я лягуха, - проговорила тихо. - Я квакуха... Я хочу поцеловать тебя в ухо...
- Он знает, что ты пошла ко мне? - наклонился над девушкой Леонид. Он вдруг догадался, что тогда в кафе ЛОХВИЦКИЙ Специально оставил Ингу с ним наедине, рассчитал и то, что будет он искать с нею встречи, то есть, использовал ее, как последнюю шалаву - подсадную утку. И здесь обыграл, обвел, облапошил, видел его насквозь.
- Он попросил, я и пошла.
- Попросил?
- Ага.
- Почему ты это сделала?
- Он платит, я работаю.
- Он заплатил тебе, чтоб ты спала со мной?
Инга молчала, может быть и не слышала ядовитого вопроса. Прошло несколько минут, прежде чем она проговорила:
- Смешной лягушонок в болоте прыг-скок...
- Но тебе-то это зачем? - воскликнул Леонид и повалился на диван ничком. - Зачем меня топтать? - Он сжал голову руками и стиснул зубы.
Ему открылось вдруг его ничтожество, его жалкое положение. Он спрашивает девушку, хотя ответ прекрасно знает сам. Она в таком же точно положении. Незаметно втянулся, доверился, приобщился к соломке и "Сальве", глазом не успел мигнуть, как настучало тысячу долга, и как пришло время расплачиваться. На какую мерзость пошел, мать обманул, кривлялся, как последний... А ведь уже почти месяц держался, не курил, попивал, но и от травки отошел, и почти не кололся. Смирно выполнил несколько условий Лохвицкого, даже в дом привел. А он вот, что, оказывается, змей, удумал. Драматург... Порой Леониду начинало казаться, что Лохвицкого нет, что это его больная фантазия. Иногда же он узнавал драматурга в каждом прохожем, даже в Зеркальном отражении.
- Он добрый, - проговорила Инга.
Она зажала крохотный окурок в ладони, погасила его и закрылась с головой одеялом.
Леонид плакал от злобы и бессилия. Слезы обильно и сразу полились у него из глаз, и он никак не мог остановиться. Все рушилось, все падало, все исчезало. И то, что он задумывал написать, открывалось ему как совершеннейшая пустота и ничтожество. И недавняя его радость по поводу сплетения хитроумной лжи с матерью и Аркадием становилась нестерпимо гадкой и презренной, и вся жизнь, все двадцать пять лет такими напрасными и потерянными виделись теперь, что хотелось биться головой об стенку и кричать, звать на помощь. Но кого?..
Он кусал одеяло и плакал. То, что копилось в нем на протяжении последних дней, вырвалось, выплеснулось. Леонид встал, достал из серой коробочки Инги тоненькую самодельную сигаретку и закурил. Затянулся сразу глубоко и жадно, погрузился в приторно-горький сизоватый туман.
Скоро пришло облегчение. Будто отступили давящие стены. Будто кто-то всесильный перекинул мостик над зияющей пропастью. И теперь при желании можно было по нему пройти, убежать из этого страшного, неуютного места, спрятаться от всех. Леонид распахнул окно, но не почувствовал свежести ночного воздуха. Он видел среди темных громад деревьев внизу лишь тоненькую полоску - доску переброшенного мостика. Спасительный путь. Легко и свободно дышалось ему, движения были плавными, спокойными, доставляли удовольствие, как полёт. Клён знакомый, высокий, надёжный, несгибаемо гибкий был совсем рядом, до него можно было дотянуться.
Леонид сел на подоконник, свесил ноги, стал медленно сползать вниз, вытягивая пальцы ног, чтобы достать до мостика поскорее. Однако тот был неосязаемым, отодвигался, прогибался под ногами. И приходилось спускаться все ниже и ниже. Леонид, ухватившись руками за подоконник, тянулся к тонкому мостику, и никак не мог дотянуться. Он ничего не почувствовал, когда под грузом усталости расцепил пальцы, расслабил руки. Он медленно парил, взлетая вверх, и кто-то шептал на ухо; "Ну вот и все! Ну вот и всё!" Теплой заботливой рукой кто-то накрывал его, успокаивал. Дивный голос пел вдали, пока все с хрустом не раскололось, не расплавилось...
*
Она вместе со всеми ликовала, когда закончилась война. Но к торжеству и радости примешивалась горькая обида, понятная многим ее сверстникам, не успевшим попасть на фронт, стремившимся туда, рвавшимся, но опоздавшим.
Она поступила в медицинское училище, чтобы стать медсестрой и поехать на войну, отомстить за папу. Она очень старалась, и помимо учебы работала санитаркой, в госпитале, где долечивались те, кто уже не мог вернуться в строй. Работать в госпитале было страшно.
Никакие лекции, никакие учебники или наглядные пособия не в силах научить привычке к человеческим страданиям, и не способны дать то, что может всего день в палате на двадцать пять человек выздоравливающих, у которых на всех не наберётся и двух десятков здоровых ног. Сотни мужчин, молодых и старых, изрубленных, искромсанных, истерзанных, но живых и требующих заботы и ухода, головокружения от недоедания и недосыпания, от усталости и страха - это была её война. Не было ничего страшнее криков и стонов раненых, когда у них начинали болеть отсутствующие рука или нога. Страшно было от бессилия. Молоденький танкист с отгоревшими обеими руками постоянно хотел окунуть их в холодную воду, истошно орал: "Горю! Воды, братцы!" Сердце разрывалось у сестер. Несли воду, хотя хорошо знали, что никакая вода не могла ему помочь, даже самая холодная. Нечего было в нее окунать. Успокоить могли только уколы. Страшно было входить в палату к Гале Соколовой, красивой, синеглазой, награжденной двумя орденами "Красного Знамени", лётчице из полка ночных бомбардировщиц, у которой были ампутированы обе ноги. Галя в присутствии персонала держалась отлично, шутила, смеялась, даже кокетничала, а по ночам выла, сдерживала стоны, кусая руки. Она умерла вскоре после того, как объявили о капитуляции Германии. Многие умирали после победы. И это было тоже страшно - огромный беспощадный зверь войны в своей агонии продолжал пожирать людей, и никто не мог ему уже подыхающему, помешать это сделать, он налютовался, накромсал за четыре года столько, что иным сразу погибшим может быть еще и повезло в сравнении с теми, чьи мучительные страдания, чья медленная смерть от ран растянулась на годы.
Раны - неизбежное следствие войны. Они рубцевались, их залечивали, их прятали. И не только на телах воевавших оставались отметины, раны были в душах, ранены были города и села, стонала раненая земля. И за ней ухаживали и ее выхаживали вернувшиеся с полей сражения хлеборобы.
Страшно трудно было жить, но тяжелое черное покрывало войны было сдернуто и все бытовые трудности, все проблемы неустроенности казались уже мелкими, неважными, проходящими.
Лена жила с бабушкой, готовилась поступать в медицинский, хотя та была бы больше рада, если бы внучка избрала направление образования связанное с художественным творчеством. Впрочем, она не настаивала, зная как это бесполезно. Сама она была искусствоведом и со времён войны занималась очень хлопотным и для многих непонятным делом возвращения и сохранения, учета национальных культурных ценностей, пострадавших в результате военных действий, перемещенных, похищенных, утраченных бесследно.
Однако, в институт поступить не удалось, не хватило знаний по общеобразовательным предметам. Лена вернулась в госпиталь, который был реорганизован в клиническую больницу, стала работать медицинской сестрой. Тут и познакомилась с Купреяновым. Произошло это странным образом. Она ассистировала на инструментах хирургу, который претендовал на работу в клинике, операция была не слишком сложной, все шло нормально. Вдруг в операционной появился главврач в сопровождении еще двух начальников - под халатами и масками не видно было кто такие, но наметанный глаз сразу отмечал – важные гости. Видимо, специально приглашенные, или тоже интересующиеся судьбой новенького. То, что главный врач в клинике Купреянов, Лена знала, конечно, но ни разу до этого с ним не встречалась, не работала с ним, так как у него была своя бригада сестер, которую он в полном составе оставил с фронтового госпиталя; знала, что он классный специалист, защитил докторскую, и что именно его стараниями клиника быстро росла и приобретала вполне нормальный ухоженный вид, пополнялась редким трофейным оборудованием, перестраивалась на самом современном уровне. Знала то, что знали все сотрудники клиники. И потому сначала не обратила внимания на пристальный взгляд из-под высокой накрахмаленной шапочки, работала как всегда сосредоточенно и было не до взглядов. Однако, этот взгляд Купреянова обладал какой-то притягивающей энергией, мешал работать, отвлекал. Лена стала делать ошибки, теряться, чего с ней вообще-то никогда не происходило даже и на самых ответственных операциях. В конце концов она не выдержала и сказала тихо, но твердо:
- Не смотрите так на меня, вы мешаете!
Главврач, показалось, смутился, опустил глаза и скоро вышел из операционной. Несколько дней подруги шутили над Леной, просили рассказать, как она выставила Самого за дверь, чтоб тот, значит, не мешал работать, и удивлялись, что она до сих пор не уволена.
Потом как-то после работы случилось и вовсе уж необъяснимое. При выходе из проходной клиники ее остановил сам Купреянов. Видно было, что он не случайно оказался здесь в этот поздний час, что он ждал ее. И Лена побледнела при встрече, ощутив, как сердце ее падает куда-то вниз и замирает от предчувствия.
- Здравствуйте, добрый вечер, - довольно решительно начал Купреянов. - Я вас ненадолго задержу с вашего позволения.- Фраза была построена и произнесена так, что нельзя было понять - просьба это или приказ непосредственного начальника своей подчиненной. Неловкость возникшей ситуации понимал и сам Купреянов, а вот неловкостей и двусмысленностей доктор не терпел.
Он в отличии от многих врачей никогда не носил военную форму, сразу же после войны перешел на гражданскую одежду, был в сером с прямыми плечами плаще, из-под сбившегося кашне выглядывала голубая в полосочку рубашка и галстук темно-синего цвета. Шляпу он при начале разговора почему-то снял. Волосы стриг коротко и поэтому крупная голова казалась очень крепкой и литой на твердой мускулистой шее. Глаза смотрели прямо, пристально, в темных глубинах зрачков таились воля, решительность и упрямство. Довольно резкие морщинки уже пролегали у глаз и над переносицей. Он был старше Лены на девятнадцать лет, то есть ровно вдвое, и казался ей совершенно непостижимо высоким, из другой жизни, загадочным и старым человеком. Потом она не раз смеялась над этим своим первым ощущением - так силен и молод он был во всем: в делах, во взгядах, в любви. Это война, наверное, отняла у него, или нет, не отняла, а просто заставила на время отложить, спрятать за ненадобностью весь запас молодости, молодых душевных сил, приберечь для главного случая. И теперь этот случай настал. Купреянов остановил девушку, взял ее за руку, с трепетом ощутил, как она похолодела в его чуткой, но отвыкшей от женских прикосновений руке. Отпустил. Говорить старался спокойно и внятно.
- О вас, принимая во внимание мое служебное положение, я уже все знаю, Елена Петровна. О себе могу сказать только то, что однажды я уже был женат, но это было так давно, что и не было вовсе. Я к сожаленью, полностью лишен возможности ухаживать за вами, нет времени. И поэтому вы должны теперь же все решить. Только одно условие мое будет непременным: вы должны уволиться из клиники!
- Вы меня увольняете? - переспросила дрогнувшим голосом Лена, понявшая из всех слов главврача только это.
Леонид Петрович улыбнулся. Он, конечно же, слишком строго делал предложение.
- С работы - да! - подтвердил он.- Но при этом совершенно официально прошу вашей руки.
- Пожалуйста, - подала ему свою руку Лена и глянула на доктора сквозь навернувшиеся слезы.
Купреянов не выдержал и рассмеялся.
- Извините меня, Лена, я веду себя как полный кретин. Но у меня есть оправдание. Отсутствие опыта в подобных делах. Я до этого никогда не просил ничьей руки. И волнуюсь сам ужасно. Одним словом, Лена, выходите за меня замуж!
Лена слушала его, плакала и уже знала, что согласна, знала, что не сможет отказать этому взрослому и такому смешному, беззащитному человеку. Если бы только слышал он, как и какими словами ее уговаривали на разные лады выздоравливающие бойцы в госпитале, каких усилий, хитростей и тактических навыков требовало от нее постоянное пульсирующее, хищное внимание к ней, как к женщине, как нелегко было отделываться от самых прилипчивых и настырных выздоравливающих. А тут он, большой и сильный, от одного слова которого замирает вся клиника, мнется и подыскивает выражения, просит стать своей женой. Лена засмеялась сквозь слезы.
- Ладно, - ответила она. - Но надо бабушке сказать, а то она будет волноваться, если я поздно вернусь.
После этого они уже вместе рассмеялись, и стало им обоим так легко, словно огромная тяжесть свалилась с плеч, смеялись, как сумасшедшие и почему-то бегом бежали по всему скверу до самого дома Лены. А на небольшом расстоянии от них ехала следом служебная машина Леонида Петровича, и дядя Сережа, постоянный шофер Купреянова, только усмехался в свои гренадерские усы, поглядывая на начальника.
- Ну что, Петрович, можно поздравить? - спросил он, когда девушка скрылась в доме, получив задание подготовить к завтрашнему вечеру бабушку для официального визита жениха.
- Кажется, да, дядя Сережа, - ответил Купреянов, ошалело глядя на своего фронтового товарища. - Сам не верю.
- Очень славная дивчина! - подкрутил ус шофер и на правах старшего подмигнул Леониду Петровичу. - Теперь берегись!
- Поехали, дядя Сережа, и так опаздываем! - сумел вернуться на землю главврач. - Наверное, совещание уже началось...
Вот так между совещаниями, принятием кафедры, возведением нового здания клиники Купреянов Леонид Петрович женился на Елене Смоляниновой. В тот же год у них родился сын, которого назвали Алексеем. И стала наполняться жизнь новыми, совершенно незнакомыми хлопотами, заботами. Елена Петровна Купреянова была полностью освобождена от всего остального, на нее возлагался дом, в центре которого теперь был только сын. В помощь по хозяйству была приставлена степенная Александровна, добродушная и медлительная, большая охотница поговорить, но в то же время безукоризненно исполняющая свои обязанности домоправительницы. Борщ она умела варить такой, что он застывал в холодильнике, подобно студню. Да и Лешик, который в детстве был болезненным и слабым, больше тянулся к ней, слушался охотнее и доверял свои секреты. Но в общем жили замечательно. Оказалось, что в Елене Петровне скрывалась очень трогательная мать, заботливая жена и расчетливая хозяйка. Она так усердно принялась заниматься бытом профессора Купреянова, его новой квартирой, обстановкой и распорядком дня, что даже видавшая виды Александровна диву давалась. Со вкусом подобранная библиотека, по-деловому обставленный кабинет, в котором все было привычно и понятно Леониду Петровичу, где удобно работалось и легко думалось, уютная спальня, вместительная гостиная, - все постепенно приобретало черты законченности и гармоничности. То есть жилище полностью соответствовало хозяину, его запросам, его потребностям. Отдаваясь без остатка работе, Купреянов только дома мог отдохнуть, только здесь позволял себе отвлечься от дел в общении с сыном, женой, музыкой. Елена Петровна чутким инстинктом женщины создавала в квартире тот самый затененный остров тишины и покоя, о котором подсознательно мечтал ее муж, постоянно занятый делами, облеченный все более масштабными заботами и ответственностью. Жена ненавязчиво держала его в курсе всех событий, рассказывала о книгах, фильмах, спектаклях, которые муж не успевал лично увидеть, посетить, прочитать. Она была секретарем и душеприказчиком, сестрой и священником. Потому что только жене может человек запряженный в изнурительную упряжку государственной службы пожаловаться, выговорить все, о чем в другом месте и с другими людьми даже думать не смеет. Жена все выслушает, все впитает, и даже если чего-то не поймет, поможет, утешит.
Не ошибся, не промахнулся фронтовой хирург, разглядел в статной медсестре именно то, что было ему нужно, душа его потянулась именно к этой женщине, способной вынести мучительную участь жены постоянно занятого служебными делами мужа. Никогда не было сказано между ними ни единого слова о любви или нежности, они словно стыдились этих высоких понятий, словно намеренно не подпускали их близко к обыденности, к хлопотам каждого дня. Но при этом не разу за все годы не забыл никто из них, какой бы чрезвычайной занятостью не был загружен, о дне рождения или о дне их встречи, всегда нежно поздравляли друг друга, дарили цветы и обязательно отмечали дату, как светлый праздник в семейном кругу.
Так уж сложилось, что для блага семьи Елена Петровна должна была уйти с работы. Действительно, служить в той же организации, которой руководит муж, жене не пристало. Да и быть занятой в той же отрасли, - считал Леонид Петрович, - тоже.
- Как я могу быть объективным в оценке твоей работы, если ты моя жена?
Спорить не приходилось. Здоровье Алексея и хлопоты по дому откладывали поступление в институт, о котором все еще мечтала Елена Петровна. Но потом и от этого пришлось отказаться. Жена Купреянова за студенческой скамьей - это было бы, конечно же верхом несообразности. Да и причем тут диплом о высшем образовании, когда быть главнокомандующим в семье и доме - это уже почетная степень академика. После того, как Леонид Петрович возглавил институт, а потом вскоре и целое управление, приходилось Елене Петровне овладевать и еще одной стороной супружеской жизни: стороной официальной. Тут надо было соответствовать не только отношению мужа, но и его положению. Это удавалось ей без труда. Моложе, привлекательнее и от природы естественнее многих таких же официальных супруг, она никогда не отягощала своим присутствием Купреянова. Он ничего ей по этому поводу не говорил, но и без слов она чувствовала, что он признателен ей, и была горда этим. Но сама, если честно, не любила "выездов". Ей по душе был дом, хлопоты, книги, возня с Алешей, даже опека над постаревшей бабушкой, которая ни в какую не соглашалась переехать к внучке, вжившись с корнями в свою старую квартиру, напоминавшую музей. Елена Петровна никогда не задумывалась над этим, но была счастлива. И второй сын, поздний для Леонида Петровича, а ею так желанный, был рожден Б любви, она это остро чувствовала, и настояла на имени Леонид, оно ей казалось самым замечательным.
Елена Петровна, прожив с Купреяновым большую часть своей жизни, каждый раз с торжественным волнением ждала дня их встречи, отмечавшегося празднично всей семьей, словно Новый год. Это был счастливый день.
*
Степан Спиридонович не сомкнул глаз весь остаток ночи. И просидел он на скрипучем своем чемодане. Слышал, как поздно, во втором часу вернулись Алексей и Людмила, как они долго возились и хихикали, укладываясь спать. Слышал, как тревожно вскрикивала во сне Елена Петровна. Тогда он ей шептал ласковые слова и гладил ее маленькую руку.
Он ничуть не тяготился своей бессонницей. Напротив, как-то очень полно и возвышенно думалось ему в эту ночь. Он сидел с открытыми глазами и смотрел прямо перед собой, видел командира своей разведроты, беседовал с ним. Вспоминал Нюру, ее работящую, всепобеждающую натуру. Видел отчетливо, словно только что прошелся по ним, родные положихинские луга, вдыхал густой, ни с чем не сравнимый запах свежескошенных трав. Не умел скучать старый солдат, только радовался тому, что жизнь такая светлая, такая прекрасная, что нет войны и счастливыми растут карапузы дети.
Почувствовав, что скоро станет светать, он осторожно разбудил Елену Петровну. Та проснулась со свежей головой, бодрая, решительная. Степан Спиридонович вручил ей мешочек белый ситцевый и сказал, что нужно его положить под подушку. Пусть дышит им Леонид Петрович, пусть кровь молодит. Дал также пузырёк темного стекла с жидкостью невидимой, тяжелой, научил что нужно выпить ее сразу же, до света.
- В ней, в этой настойке, вся сила. Это наша полынь береговая, именно ее и просит сердце старое, в ней хочет омыться, омолодеть.
Как заботливая мать, Степан Спиридонович собрал Елену Петровну, проводил, напутствовал. И повиновалась та безропотно, все выполняла в точности, проникнувшись верою в необходимость совершаемого. А может быть и не отошла еще вполне от потрясения. Во всяком случае, слова не сказала, все взяла, все согласилась выполнить. Поехала. Обещала сразу же, как только что проявится, позвонить. О Моргачевых, разумеется, не вспомнила, ни словом не обмолвилась. Да и при чем тут были теперь Моргачевы?
- Я буду ждать у телефона. Слышите, Елена Петровна. Вы позвоните в любом случае. Потому что нет теперь ничего важнее на свете, чем это, - сказал, провожая ее в дверях, Степан Спиридонович.
Они расстались. И потянулись невероятно длинные и трудные минуты ожидания для Авксентьева. Он сел на стул в гостиной и стал смотреть на телефон. Тугой плотный жгут постепенно накручивался на голову и все труднее становилось дышать. В голове медленно, но неотвратимо разрасталась застарелая боль, ей легко было отвоевывать территорию ослабленную бессонными ночами, переездом, надрывом. Степан Спиридонович подложил твердую диванную подушку и встал, опираясь ногами о стену, головой вниз, как его научили много лет назад в одном из госпиталей по системе йогов. В иных случаях это помогало. Во всяком случае отодвигало на какое-то время встречу с главными силами боли, не давало ей сразу наброситься и в клочья растерзать. А сейчас главное было выиграть время.
Каково же было удивление Людмилы, когда она, проснувшись раньше мужа и проходя коридором в туалет, заметила стоящего на голове совершенно незнакомого мужчину. Она не закричала, нет, не побежала звать на помощь, она спокойно измерила странное видение взглядом. Затем спокойно посетила туалетную комнату, и только после этого вернулась в свою комнату и сдернула с Алексея одеяло:
- Иди и разберись! - сказала очень твердо. - Или это я или вообще!
Алексей отмахнулся от вторжения в сладкий свой сон и перевернулся на другой бок. Но спасения не было, жена настояла на своем.
Пришлось вставать, натягивать халат, идти нетвердыми шагами в гостиную и задавать не слишком убедительный вопрос человеку, стоящему на голове:
- Позвольте, а вы собственно кто будете?
- Я Авксентьев, - отвечал человек, не меняя положения.
- Это замечательно, - согласился Алексей, - но почему вы у нас дома и почему на голове?
- Йог? - поставила вопрос определеннее Людмила, останавливаясь за спиной мужа. Авксентьев опустил ноги, сел на пол, и отвечал как можно обстоятельнее:
- Вообще-то я редко, это меня в госпитале научили, но иногда помогает. Постоишь минут пяток, вроде полегче становится.
Супруги обменялись взглядами и вновь стали разглядывать странного незнакомца.
- Вы - сын Леонида Петровича, верно? - вдруг произнес Авксентьев, глядя в глаза Алексея. - Должно быть, старший.
- Да, - удивленно ответил Алексей, - А что?
- Вы позднёхонько пришли, я слышал...
- Как?
- Я приехал еще вечером, вас, должно быть уже не было, - объяснил Степан Спиридонович, поднимаясь, - Меня привечала хозяюшка, Елена значит, Петровна. Чаёк мы с нею попили. Рябинник да медуницу настаивали...
Людмила осторожно отошла и открыла дверь в спальню родительницы. Измятую кровать она увидела и больше ничего, разве что нелепый деревянный чемоданишко.
- Мамы нет, - прошептала Людмила, вернувшись в гостиную.
- Да, она уже ушла. Поехала в больницу, - растолковал Авксентьев, - чтобы успеть до сход солнца... Так надо.
- А мне надо выспаться, - заключил Алексей и направился к коридору. - Я ровным счетом ничего не понимаю. Бред какой-то.
- Прими лучше холодный душ! - дернула его за рукав жена, всем своим видом изображая недоверие к подозрительному ночному гостю.
- Ладно, - согласился Алексей и закрылся в ванной.
- Ранение мое было в голову, - после небольшой паузы признался Авксентьев пристально на него глядящей Людмиле.
- Бывает, - ответила та.
- Чего только в жизни не бывает, - миролюбиво поддержал ее гость.
- Что вы говорите? - спросила она для того, чтобы только что-то спросить.
- Ну вот, а Леонид Петрович Купреянов, значит, хирург полевого госпиталя, полковник медицинской службы, меня, это, заштопал, починил. Да...
- Очень интересно, - не вникая в подробности объяснений, позевывая, сторожила гостя Людмила. Степан Спиридонович понял это, улыбнулся, и снова встал на голову.
- Извините, - проговорил только.
Когда через некоторое время зазвонили в дверь и явились совершенно нежданные Моргачевы, в доме началось и вовсе странное. Мокрый Алексей вышел из ванной и застал жену с ее родителями. Моргачевы оживленно беседовали, не слушая друг друга. Людмила рассказывала о том, что какой-то подозрительный мужик с утра стоит в доме на голове. Ее мать шумно выражала удивление отсутствием Елены Петровны, которая сама же упрашивала приехать именно с утра, потому что утром, мол, необходимо срочно передать деньги одному человеку.
- Стоп, стоп, Евгения Филипповна, минуточку, - поднял руку Алексей, вторгаясь в беседу. - Какие деньги, кому передать?
- Как, Лёшик, вы разве не в курсе? - изумилась Моргачева. - Но ваша матушка звонила вчера и настоятельно предлагала свои серёжки. Хоть и дорого очень, но чего не сделаешь для родного человека в трудную минуту.
- Стоп! Я ничего не понимаю, - опять остановил ее Алексей. И обратился к жене. - Люда, ты хоть что-то понимаешь?
- Мама, толком объясни, вы чего опять в такую рань? - по-простому обратилась к матери дочь.
Тут выступил вперед Моргачев и обратился непосредственно к Авксентьеву, который сразу привлек его внимание.
- Здравствуйте. С приездом.
- Спасибо. И вам не хворать, - ответил Степан Спиридонович, положения своего не меняя. - Вы меня простите, что я так...
- Ничего, ничего, если вам удобно, - поспешил уверить его Моргачев в своей лояльности. - А не давит?
- Привык я.
- Ну что ж, это радует.
- Он говорит, что ранен в голову, - сообщила всем Людмила.
- Да, раненных именно в голову нам как-то остро не хватало, - мрачно проговорил Моргачев и, придерживая Алексея за локоть, конфиденциально поинтересовался. - Что туг, собственно, происходит, Алексей, объясни, прошу тебя как человека только что вышедшего из ванной комнаты.
- В том-то и дело, что я сам ни черта не понимаю, - признался Алексей и почему-то показал при этом на Авксентьева. - Он говорит, что приехал еще вчера вечером...
- Ах, вот оно что! - всплеснула руками Евгения Филипповна. - Теперь мне все ясно. Это вам Елена Петровна должна деньги? Да?
Авксентьев принял нормальное положение. Глаза его от переизбытка крови были красными, он тщательно приглаживал волосы и бороду руками.
- Я об этом ничего не знаю, - сказал он.
- Позвольте, а вы, собственно, с какой целью тут? – спросил его Моргачев, не отпуская локоть Алексея.
- Я? К доктору я приехал. К Леониду Петровичу Купреянову. Пособить... Да. Клюквы привез, грибочков, травки...
- Все ясно, спасибо, - театрально поклонился Моргачев. – Более, чем исчерпывающе...
Он посмотрел на дочь, потом на жену и выразительно пожал плечами, процедил сквозь зубы:
- Да, такого поворота я не ожидал от Елены Петровны.
- Просто некрасиво, - отметила и Евгения Филипповна.
- Граждане хорошие, вы чего-то не того, - вступился было Авксентьев, но Алексей выставил вперед обе руки, пресекая его попытку, и сказал громко:
- Я ничего не понимаю. Может быть мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит и что все это означает? Сегодня что, воскресенье?
- Можно я? - шагнула вперед Евгения Филипповна, прижимая к объемистой груди пухлую сумку. - Дело, Алешенька в том, что, как я понимаю, мы можем этому человеку непосредственно передать деньги, а вы нам сережки. И все.
Моргачева радостно улыбалась и хлопала ресницами. Алексей же переводил взгляд с нее на Людмилу, с Людмилы на Авксентьева и на Моргачева, старался постичь смысл сказанного, но у него ничего не получалось. Никак не связывалось воедино все вместе - и видимое и произносимое.
- Может вы нам объясните? - в надежде обратился он к Степану Спиридоновичу. - А то мне все больше кажется, что я сошел с ума. Что здесь вообще происходит? Какие такие деньги, что за сережки, где мама, какое ранение и что тут делают Моргачевы?
- Что я вам скажу, мои дорогие, - оживился Авксентьев, - давайте сядем, чайку попьем дружненько. А там и Елена Петровна позвонит. Вот все и разъяснится.
- А может лучше я в милицию пока позвоню? - вдруг сказала Людмила и решительно направилась к телефону.
- Прошу вас, не надо. Телефон действительно лучше не занимать, потому что от звонка Елены Петровны зависит очень многое, она сообщит, как дела с Леонидом Петровичем, как прошло посещение, - встал на ее пути Авксентьев и распростер руки. Голос его звучал умоляюще. - Ну ведь я не бегу от вас, и милицию вы еще успеете вызвать, если что, правда?
Людмила оглянулась на отца. Тот, видимо, рассудил, что, действительно, вызвать милицию никогда не поздно и кивнул дочери утвердительно.
- Ну что ж, будем ждать звонка,- сказал растерянно Алексей, глядя на телефон.- Если ничего другого не остается у нас... Хотя, если честно, я лично предпочел бы...
Он не договорил, фраза завяла так и не родившись, и сам Алексей сник, словно в ожидании приговора. Моргачева шумно вздохнула и предложила радостно:
- А и в самом деле, давайте лучше чай пить! Или, лучше, кофейку.
- Да, раз уж все равно пришли, в самом деле,- потер ладони Моргачев,- Какая разница как ждать. А чай, он, как известно, способствует.
Все направились в кухню.
- Потерпи, доктор, уж немного осталось,- прошептал Степан Спиридонович и перекрестился.
Телефон молчал.
*
Инга, как только очнулась, сразу же встала я выглянула в окно. Ей не давал покоя вчерашний жуткий сон, в рассветной полутьме она увидела с высоты четвертого этажа прямо под окном на черном асфальте неестественно белую распластанную фигуру. Холодный пот прошиб её, ноги подкосились. Инга не помнила, как одевалась, как выбегала из дома, как поймала первую попавшуюся машину. Руки её тряслись, когда она оказалась возле двери Лохвицкого. Нажав на кнопку звонка, Инга её больше не отпускала, словно не слышала как бесконечно повторяется в глубине квартиры одна и та же мелодия музыкального сигнала. Долго никто не открывал. Когда, наконец, появился сонный драматург, он, казалось, ничуть не удивлён поведением девушки. Спокойно снял палец Инги с кнопки звонка, выслушал сбивчивую бессвязную речь её о том, что тот парень выпал из окна и лежит на тротуаре, белый.
Лохвицкий нервно зевнул и поёжился.
- Да? Надо же? - проговорил он.- Такого я никак не ждал от него. Это поступок... Ну, просто маленький Лужин.
- Он сам! - вскрикнула Инга.- Когда я оказала, что...
- Кто там в такую рань? - послышался недовольный женский голос из глубины квартиры,- гони всех на хрен к чертовой матери!
- Успокойся,- проговорил Лохвицкий и прикрыл коридорную дверь.- Ну что ж, - вернулся к Инге,- поворот не по сценарию. Тем интереснее. Настоящая драма. Надо поехать, посмотреть, принять посильное участии в завершении,- подвёл он итог своим соображениям.
- Но он же умер,- в ужасе прошептала Инга и отступила от драматурга, прижалась к стене.
- Что он мог еще полезного сделать в этой жизни? – проговорил Лохвицкий, криво ухмыляясь и хотел потрепать девушку по щеке, но Инга отшатнулась, вскрикнула:
- Не прикасайся ко мне!
- Спокойствие, мой милый друг, спокойствие! Умер-шмумер, лишь бы был здоров. Развлеклась, словила кайф - будет, что вспомнить. Кто бы мог подумать. Дела... Тебя никто не видел? Впрочем, конечно, видели... Ладно, что-нибудь придумаем. Подожди меня.
Он ушел. Инга, обессиленная, сползла по стене не пол, легла пождав ноги к самому подбородку и истерически заплакала.
Она не была уверена, реально ли всё, что с ней происходит, или это продолжается медленный полёт. Но только почему-то видение распластанного тела не исчезало, стояло перед глазами и обдавало страшным холодом.
Инга кусала губы и изо всех сил сжималась в комок, стараясь согреться. Колебалось холодное пламя свечи, катилось яблоко, зияя надкушенным боком, тянулись к ней за помощью длинные белые руки, улыбался золотозубо лысый драматург. Инга боялась открыть глаза - а вдруг всё это окажется реальностью, правдой?
*
Ожидание становилось нестерпимым. Разговор не ладился, ни о каком чае, разумеется, и речи быть не могло. Все сидели на стульях перед телефоном и смотрели на него. Моргачевы, как самые заинтересованные, чувствовали себя в первом ряду партера на представлении или может быть на открытом судебном заседании. Вот-вот их иск будет удовлетворен. Алексей сидел с головой, замотанной полотенцем, сложив руки на груди, и был похож на карикатурного турецкого посланника, эдакий Байрам-Али-Ибн-Ахтар. Он тупо смотрел прямо перед собой и решительно ничего не понимал, выпив залпом целую бутылку "боржоми" и мечтая о горячем завтраке. Людмила сидела как на иголках, она подозревала неладное, но не могла точно сказать почему. Много раз она принималась что-то говорить, но тут же замолкала и теребила полы своего халата. Авксентьев стоял у дверного косяка и тосковал. Он отчетливо ощущал густую стену недоверия, даже враждебности, и потому чувствовал себя неловко. Его как бы держали на прицеле. И чай пить не стали после того, как Моргачева пухлым своим ртом, вытянутым в брезгливую трубочку, проговорила:
- Я не знаю, что он там заваривает, но пить этого не рискну. А вдруг он...- И она сделала рукой жест, словно выкручивает возле уха лампочку. Что сие, движение должно означать, она и сама толком не знала. Неопределенность всегда будит фантазию и каждый понял жест, как хотел. Но чай пить не стали и принюхивались к травам Степана Спиридоновича как к утечке газа, опасливо.
" Бог вам судья, люди", - подумал Авксентьев, но и сам пить не смог, пошел и встал у косяка двери, чтобы быть у всех перед глазами.
- Стоп! - вдруг воскликнул Алексей, и все повернулись к нему. - Стоп, стоп. При чем тут тысяча? Какая тысяча? Кто из вас сказал про деньги?
- Но, Лешенька, - пропела Моргачева и потрясла сумочку. – Мама твоя нам предложила и сумму сама назвала, просила именно пораньше утром завезти…
- Я потому спрашиваю, что вспомнил: вчера ко мне приходил брат Леня, и просил в долг именно пять тысяч.
Моргачевы посмотрели при этих словах на дочь. Та хмыкнула и глянула на мужа вопросительно.
- Я забыл тебе, Людочка, рассказать. Как-то мы закрутились, не до того было...
- Но нам звонила сама Елена Петровна и ничего про Ленечку не упоминала, напротив, исключительно про сережки, - вновь выставила вперед как вещественное доказательство, свою сумку Евгения Филипповна.
- Так, так, так, - поднял глаза на Авксентьева Моргачев.- Скажите, любезный, вас, случаем, не Леонид вызвал сюда?
- Какой Леонид? - переспросил Степан Спиридонович. – Зачем Леонид? Я же говорил, я сам приехал. Да что вы опять волнуетесь, граждане, сейчас позвонит Елена Петровна, всё вам расскажет.
- А если она не позвонит? - сделала круглые глаза Людмила и почему-то зажала рот ладошкой.
- Люда, перестань, - сделал ей замечание Алексей и продолжил, обращаясь уже к тестю. - Вы что, полагаете, что мама...
- Ой, Лешенька, жизнь такая замысловатая вещь, что тут полагай, не полагай. Она задает вопросы, а ты должен ломать голову и разгадывать.
- Как в кроссворде! - брякнула Моргачева уверенно.
- Именно. Только тут в ответ не заглянешь. А если и заглянешь, можешь увидеть совсем не то.
- Не понимаю, какие еще кроссворды, при чем тут кроссворды? - вмешалась Людмила. - Какие еще могут быть кроссворды?
- В совпадение, конечно, не верится, - размышлял дальше Алексей. Уж больно тесно все связывается. И Ленька, и мама, и вы... Но при чем здесь деньги?
- А он что тебе плёл? - спросила Людмила.
- Говорил - жениться надумал, мотоцикл, мол, хочу купить,- ответил Алексей и сам почувствовал смехотворность объяснения. Моргачевы не скрывали своих ухмылок.
Людмила задала им еще один вопрос:
- А мама что говорила?
- Говорила, надо отдать одному человеку очень срочно, - с удовольствием повторила Евгения Филипповна и посмотрела при этом выразительно на стоящего в дверном проеме Авксентьева.
И взгляды всех остальных сошлись на нем. Неуютно было под этими взглядами старому солдату, стоял под ними, как лицом к глухой стене. Ни интереса в них, ни сочувствия, ни понимания, ни доброты. Опустил глаза Степан Спиридонович, помимо воли своей сжимая кулаки, проговорил, ни на кого не глядя:
- Сто тысяч в фонд мира...
Присутствующие переглянулись, ничего, разумеется, не поняв. Повисла пауза. Напряженная, гнетущая.
И тут, как разряд тока ударил, - загремел, задребезжал телефон.
Хотя все были поглощены именно ожиданием этого звонка, все равно он прозвучал внезапно, его настойчивая трель повергла всех в смятение. Даже Моргачев почему-то встал со своего места, столкнулся с женой, но даже не заметил этого.
Как от укола подскочил со стула Алексей. Он был ближе всех и потому протянул руку к аппарату первым. Но замер с занесенной над трубкой рукой, словно та была раскалена. Не стал снимать, отступил, растерянно оглянулся на Людмилу. Та нервно пожала плечами, посмотрела на отца. Моргачев, овладел собой, снова сел, изобразил на лице полный нейтралитет. Разбирайтесь, мол, сами. Евгения Филипповна же, как заведенная, то садилась, то снова вставала, никак не могла остановиться, пока муж не взял ее за руку и не усадил.
Призывные звонки раздавались настойчиво один за другим. В наступившей тишине они казались особенно громкими, а мертвые паузы их разделяющие, придавали каждому звонку зловещий оттенок.
Никто, не мог определить, откуда звонят, с какой доброй ли, черной ли вестью, никто не хотел принять удар на себя.
Напряжение последних дней, бессонные ночи, коварная рана, напоминающая о себе, и особенно последний этот, мучительный час ожидания, сплелись для Степана Спиридоновича с протяжными звонками воедино. Будто непосредственно к его сердцу был подключен телефонный провод - такой обжигающей острой болью отзывался каждый новый звонок в душе Авксентьева.
Он сделал сразу же за Алексеем движение к телефону, весь устремленный перелиться в слух, в надежду. Но натолкнулся на нерешительность, которая умножила боль. А сердце оглушительно билось, подсказывая: сейчас все прояснится, сейчас все закончится!
Алексей умоляюще посмотрел на Степана Спиридоновича, опустил руку, отступил на шаг, освобождая место у аппарата, сдаваясь.
Как на приступ, пошел старый солдат на невидимую, но прочную глухую стену, не мог не пойти. Шептал, как заклинание:"Потерпи, доктор, потерпи! Все образуется. Я здесь!"
Заплясали перед глазами огненные шары, иголка опять вонзилась в голову, боль, казалось, торжествовала победу. Но уже ничто не могло остановить Степана Спиридоновича.
Он решительно снял трубку:
- Да, это я, рядовой Авксентьев. Слушаю...