
Акум
— сокращение,
составленное из начальных букв халдейских слов
"аобде
кохабим умасулоф",
что означает "поклонники звезд и планет".
... впитывая свет
звезд, просветляются, чище
становятся в реках и озерах воды…
…так и ночи к середине сентября после жаркого, пыльного августа
настаиваются прохладою и чистотой - небо делается
прозрачным глубоким,
звезды приближаются и сияют словно елочные игрушки,
грозя вот-вот сорваться с невидимых ветвей…
...нет, густым волосяным покровом я обрастать не стал, даже звериных
шкур, жилами скрепленных, на плечах своих не почувствовал,
но домотканые материи и собственноручно выделанные кожи укрыли
мою наготу, и на подворье
своего деревянного жилища я провел вечер, в немом изумлении задрав голову к
звездному небу…
...много тысячелетий потом
среди транзисторов и спутниковых антенн в многоэтажном доме на балконе в
местности издревле населенной и благословенной в тот же день и тот же
вечерний час я был поглощен тем же занятием...
...с определенной периодичностью такое случается
– и даже можно привыкнуть и к подобным процессам
явлениям-зрелищам. Но когда совпадает во времени и галактическом
пространстве и чистота небес с кристально яркими звездами и вступление
в фазу полнолуния, и настроение того, кому назначено
все увидеть и описать - то рядовое это
астрономическое событие перерастает в некое программное мистическое
таинство:
начнем с того, что это – внеочередное лунное
затмение, оно не обозначено в ритуальном лунном календаре
ацтеков, нет его
на звездных картах египетских жрецов и даже
халдейские звездочеты о нем не упоминают, хотя они
прилежно точно высчитали все возможные
случаи метаморфоз траекторий постоянных обитателей звездно-небесного свода…
1 - Столь четкую, чистую, выпуклую и красочную картину затмения не
приводилось наблюдать
мне в последние тридцать тысяч лет.
2 - И это само по себе непреложное диво дивное.
3 – Ибо истины, не сталкивающиеся с человеческой выгодой и с
человеческими удовольствиями приветствуются всеми людьми.
4 - Так хочется стать опять волхвом жрецом пророком, видя как полный
белесо-мертвенный диск луны постепенно тускнеет до телесно-теплого,
прикрывается тенью, как ослепительно горит раскаленный до бела краешек затем
скрывается и он - преображая пересвеченный белый круг в объёмный, прекрасный
и такой загадочный шар...
5 – Как нарядна и красива сегодня наша новорожденная Луна!
6 - А как видны новые каналы-горы-кратеры на ее поверхности!
Сцена прибытия:
падают
созревшие звезды. Они нынче
такие свежие яркие - вот
и еще одна нетерпеливая полетела!
7 - Такого более никогда в жизни не приведется зреть.
8 - Мы в этот мир приходим, чтобы постигать истину.
9. - Не вдавайтесь в объяснения, если хотите, чтобы вас поняли.
10 - Нет мира кроме земного мира. И человек да будет поэт его!
....нет ответа на простой вопрос о времени и способе рождения вселенной, тем
более не подвластно земному обыденному человеческому сознанию охватить
представить себе ее размеры...
…просто она вся была смонтирована за шесть
рабочих дней… а день седьмой отведен для отдыха от трудов праведных…
Но именно в седьмой день когда-то
кто-то начал подсчитывать дни, чередованья времен года, лунные
затмения, кто-то задался вопросом о точности отсчета,
кто-то измыслил ноль, кто-то объединил, собрал рассыпанное общечеловеческое
сознание собственного бытия до категории неоспоримых, неподвластных времени
истин, заключив их в общедоступные формулы строения элементов, структуры
кода ДНК, взаимовлияния энергий заключенных
внутри самой материи, и
постарался прочертить прямую линию от рождения до смерти – получился круг…
Замкнутая прямая… Внутри описанного пространства
очевидно, что назначением и глобальной
Сверхзадачей Человечества является обеспечение его
Эволюционно-Ориентированного Развития в гармонии с Природой,
в гармонии с Ноосферой, в гармонии с Большим Космосом. Исключительно
при таком подходе действительно возможно
устойчивое, а не просто регулируемое развитие. Альтернативой ему является
только самоуничтожение. Цивилизация не может, не
разрушая саму Цель, создавать технологии, угрожающие природе, ноосфере,
угрожающие Человеку.
Как вмещает
все в себе хрупкая и беззащитная душа человеческая?
Как выносит это все?
Специфические свойства живой
материи, составляющей ткань бытия отдельного
человека - многослойность и многозначность. Она,
эта ткань, в основном соткана из противоречивых, порою просто
взаимоотторгающихся направлений и компонентов,
столь удивительна в своей сути, что лишь полное погружение в анабиоз
теоретически позволяет относиться к этому
рационально естественно, спокойно, может быть даже с
неким юмором.
А если сгустки живой материи, причудливым образом соединившись,
еще и в творческую трансформируются-переливаются
натуру, то тогда и способы анабиозирования
приобретают вполне законченный критический параноидальный характер.
Собственно, иначе и быть не может, ибо Творчество есть не поддающееся
диагностированию продолжение созидания
вселенной.
Писать эссе, наблюдая в мелкоскоп за развитием хрящеватых
неполночленистоногих, составляя гороскопы
нуждающимся или рецепты заблудшим, оборудуя ночлежки для прокаженных или
конструируя межпланетные летательные аппараты вне
зоны влияния НАСА, расчленяя спирали молекул ДНК,
препарируя артефакты криптозоологии, записывая
зарисовывая вещие сны, - это
единственный надежный способ бегства от
банальной рутинной физической сущности происходящего с каждым отдельным
человеком.
Нет ничего такого, что имело бы начало и не имело бы конца.
Как тридцать тысяч лет тому на вершине лета – когда день равен
ночи - во время бдения у капища Каменной могилы в
душах простых сельчан, вольных охотников, - так и теперь, в первые
десятилетия двадцать первого столетия ареною схваток бесконечного Времени и
мгновенной Жизни Отдельного Человека,
местом, целью и значением является Душа...
Свойство каждой отдельной души поразительным образом напоминает и повторяет
свойства разрозненных частей материального мира - что бы с каждой отдельной
частью ни случилось, все равно, несмотря ни на
какие катаклизмы, суть Материи и ее
временно-пространственная глубина ничуть не изменятся...
При постоянном ежесекундном испарении миллионов
отдельных человеческих душ рожденных и еще не родившихся, - плодоносных и
пустоцветных, при бренности и уязвимости каждой отдельной человеческой души
из мирриадов бывших, сущих и предбудущих, при всем этом бесконечно
гармоничном вселенском хаосе, каждая из них (словно капли воды в бездне
морской, не могут существовать по отдельности) являет собой и модель, и
неотъемлемую составную часть неизмеримого, огромного целого, того что
на скрижалях поэтических ристалищ обозначено,
зафиксировано как Бессмертная Человеческая душа.
Ей, всеобщей, неделимой, неохватной принадлежит весь опыт духовного
самосозидания Человечества: тут намешано всего - и
откровения и заблуждения, и озарения и болезнетворные рудименты. Все это
ростками предначертанными оседает в неравных долях в каждой отдельной душе.
А от старательности, везучести и приобщенности
отдельной души зависит степень ее соития с Бессмертным Океаном Духа.
Избранничество - пароль.
Литература – код сердца…
Нет счастья, равного сознанию того, что
в общем
переплетении судеб,
подчиненном высшему замыслу,
тебе назначена особая роль.
И дальше – что бы ни случилось –
лишь подтверждение правильности единственного пути.
Молекулы судеб под небосводом надежд…
Каждого
АКУМ в
океане
ждет именно ему
предназначенный
остров.
*

__________________________________________________________________________________

Предрассветная сизая дымка
окутала величественную горную гряду.
До самого горизонта, едва
розовеющего в этот час, вздыбились исполинские застывшие волны.
Тишина.
Постепенно истаивает сумрак.
Солнце всходит над грядою и заливает долину теплым светом.
Пробуждается тайга.
День заполняется живым диким многоголосием.
Из-под пахучих утренних соцветий
иван-чая на красноватую каменистую твердь дороги выползает лоснящаяся от
росы змея. Дорога быстро нагревается, змея выбирает плоский теплый камень и
сворачивается на нем кольцами.
В таежных этих безлюдных краях начало августа - самое благодатное время.
Словно чуя свою краткость и обреченность, лето шало отдается разгулу красок,
цветов и запахов. И жара случается порой такая, что изнемогает в сладкой
истоме тайга, блаженствует и благоухает.
Вот таким жарким обещает быть и этот день.
С утра - ни облачка, ни дуновенья ветра.
Змея пригрелась на камне, уснула. Не слышала, как родился далеко внизу на
дороге противный чужеродный звук.
Надсадно ревя мотором, к перевалу поднимался мощный грузовой автомобиль
защитного цвета. Кузов его был переделан в крытый металлический фургон.
Единственное окно задней двери было перечеркнуто решеткой.
В кабине сидели трое. Все в военной форме. В руках сопровождающего был
виден автомат. Широколицый сосредоточенный водитель цепко держался за руль и
напряженно смотрел прямо перед собой. По этой дороге ездили очень редко.
Прижимаясь к отвесной стене, она петляла, взбираясь в гору все выше и выше,
чтобы перевалить через хребет, минуя нагромождение циклопических скал,
теснящих дорогу со всех сторон. Повороты были узки и круты, скорость поэтому
черепашья.
Проехав очередной поворот, машина правым передним колесом раздавила плоский
камень, а вместе с ним и встрепенувшуюся было, поднявшую голову сонную змею.
Сверкающая на солнце шкура лопнула, вывалились белесоватые внутренности,
смешались с дорожной пылью.
Громыхающая, скрежещущая, изрыгающая зловонный смрад машина скрылась за
скалами. Мертвая змея была похожа на нарядный ремешок, брошенный на обочине.
Сверкая вороненой броней, тут же из-за камней появился рогатый черный жук.
Подбежал к раздавленной змее, по-хозяйски зашевелил усами, как бы
примериваясь к неслыханно щедрому угощению.
Хищный крепкоклювый ворон зорко наблюдал за происходящим на дороге с голого
сука лиственницы. Слетел бесшумно и ловким ударом пробил жуку панцирь, затем
в два приема проглотил его. Только после этого птица окинула красноватую
дорогу своим всевидящим взглядом и принялась за добычу более лакомую.
Наступив лапой на то, что еще недавно было змеей, ворон стал деловито
долбить теплое мясо, проглатывая большие куски и непрерывно озираясь по
сторонам - надо было успеть воспользоваться случаем, ни с кем не поделиться.
Не каждый день судьба преподносит такие подарки.
Совсем скоро от змеи ничего не осталось.
Машина: поднялась на перевал.
Вокруг были только скалы.
Редкие деревья немыслимыми усилиями цеплялись корнями за расщелины в
камнях.
Солнце яркими прямыми лучами вылизывало грани скал, делало
их рельефными, будто ледяными. Синяя тень от машины скользила по отвесной
скале то исчезая, то вновь появляясь, то проваливаясь глубоко в пропасть, то
дробясь причудливо о стволы деревьев.
Водитель ловко, одной рукой, прикурил, затянулся блаженно.
– Ну теперь уж полегче будет, товарищ
лейтенант, - весело проговорил он, подмигивая. - Самое страшное
позади. Теперь доедем точно...
Машина, набирая скорость, катила под уклон.
Визгливо скрипели тормозные колодки, кузов обреченно громыхал.
Из-под колес разлетались осколки камней, клубилась мелкая
охристая пыль.
Часто на полотне дороги стали появляться рыжие зверьки -
не то суслики, не то хомяки. Они взвизгивали при появлении машины и
стремглав исчезали в своих норах.
Один же из них, вместо того, чтобы, как все, шмыгнуть в
сторону, понёсся прямо перед машиной по дороге, петляя среди камней, сверкая
вздернутым хвостиком.
–
Во дает! - радостно заметил зверька водитель.
– Шпарит километров тридцать в час, - взглянув на показания спидометра,
проговорил он чуть погодя.
– Интересно, а их едят? А, товарищ лейтенант? - спросил, проглотив слюну,
сопровождающий с автоматом.
–
Не пробовал, - сухо ответил офицер.
Так и ехали - трое в кабине в защитной форме глядели усталыми глазами сквозь
пыльное стекло на ложащуюся под колеса дорогу, на мелькающего впереди,
спасающегося не то хомяка, не то суслика.
Вдруг водитель резко ударил ногой по педали тормоза. С визгом и скрежетом
остановилась машина, уткнувшись в камни. Целое облако пыли догнало грузовик
и поглотило его.
В металлическом кузове при торможении послышался грохот, затем глухая
неотчетливая ругань.
Лейтенант вышел на дорогу, размял поясницу, огляделся.
Крутой склон, скалистый и голый, был весь в трещинах и ямах.
В этих местах случаются такие перепады температур, что скалы не выдерживают,
трескаются: жара днем, а ночью подмораживает - вот и крошатся неприступные с
виду камни.
Втроем сдвинули с дороги кое-как два особенно крупных обломка скалы, прочие
мелкие камни побросали вниз, в ущелье.
Расчистили проезд, одним словом.
Сели по местам.
– Вперед! - тихо скомандовал офицер и хлопнул дверцей.
И как только машина тронулась с места - со склона, подпрыгивая и хрустя,
отлетел еще один камень, размером с лошадиную голову, упал на дорогу прямо
на след от задней пары колес, качнулся и замер.
Широколицый водитель опять курил, был серьезен, внимательно смотрел на
дорогу и перед каждым новым поворотом отклонялся чуть в сторону, чтобы
заглянуть подальше вперёд.
Какое-то время ехали молча.
– Товарищ лейтенант, - неожиданно громко заговорил
сопровождающий с автоматом, – мы только к ужину приедем в расположение?
Верно? А как с обедом? Нам оставят?
Из кузова доносились глухие монотонные удары. Видимо,
топали ногами. Лейтенант резко снял с приборного щитка микрофон на прочном
шнуре, нажал тумблер, зло проговорил:
– А ну тихо там!
В кузове затихли.
–
Оставят, как же! - проговорил лейтенант, вешая микрофон на
место.
– Да, но ведь, - начал было фразу солдат, но не закончил ее.
Тут произошло нечто странное, срезавшее его слова.
На капот и ветровое стекло машины сверху упали мелкие камешки, дробно
застучали по крыше кабины.
Машина остановилась и заглохла, словно упершись во что-то.
Водитель растерянно и виновато посмотрел на офицера.
Стало неестественно тихо.
Камень побольше хрустко ударил в лобовое стекло — и побежали от точки
удара паутиною белые трещинки.
Лейтенант повернулся к водителю, хотел ему что-то сказать,
но не успел.
На крышу кабины с тяжелым гулом обрушилась каменная глыба размером чуть
меньше самого автомобиля.
За глыбой вслед, словно брызги, упали на дорогу более
мелкие камни, обсыпали остановившуюся машину.
Все это длилось секунды, мгновения - произошло как-то
враз, незаметно.
И потому особенно долго, нереально рассеивалась над дорогой желтая пыль,
оседала белесоватая муть.
И тишина при этом стояла совершенно невозможная.
Где-то далеко внизу едва слышно журчала вода, подчеркивая тяжесть тишины.
Когда пыль на горном повороте дороги рассеялась, открылась
картина случившегося: сорвавшаяся со склона глыба упала на грузовик как раз
по середине, вмяла машину в каменистую почву. Задние колеса от перекоса рамы
приподнялись и вращались беспомощно в воздухе. Кузов был разорван поперёк,
образовав огромную дыру в виде хищной металлической улыбки. Из сплющенных
топливных баков вытекало горючее.
Первыми звуками, послышавшимися из кузова был разухабистый русский мат,
перемежаемый надсадным кашлем.
Полосатый бурундук, из-за корневища разглядывавший происходящее на
дороге, услышав голос, тут же юрко спрятался в норе.
А в разрыве металлической крыши показалась худая рука с
тонкими пальцами. Затем, словно рождаясь из страшного покореженного чрева,
явилась стриженая голова с широко раскрытыми светлыми глазами.
Запыленное с ссадиной на лбу лицо светилось удивлением и
радостью. Детская улыбка делала его глуповатым и беззащитным.
– Нy, что там?! - хрипло
прозвучало изнутри кузова, и забухал тяжелый кашель. - Эй!.. Ты там? Что?..
– Солнце, - тихо ответила возвышающаяся над разорванным металлом голова. -
Солнце и ручей...
– Какое солнце? В душу... гроб... мать...нехай! - послышалась резкая
ругань, - А ну иди сюда, помоги мне! Слышь, кому говорю!..
Стриженная голова скрылась в уродливом разломе кузова.
Через какое-то время на ее месте появилась другая, крупная, углолицая,
темная. Прищуренные цепкие глаза сверкали по сторонам, вбирая мгновенно и
оценивая увиденное. Одним махом крепкое коренастое тело оказалось на крыше
кузова, ловко съехало на землю. Суконная куртка с изодранным левым рукавом,
кровь на руке, номер на нагрудном кармане куртки, мешковатые штаны и тяжелые
сапоги.
Выбравшийся из дыры человек шустро оббежал машину кругом,
остановился и присвистнул, увидев огромный камень, расплющивший капот. Как
раз на место водителя угодила сорвавшаяся глыба.
Вскочив проворно на соседние камни, человек встретился
взглядом с молоденьким солдатом, сопровождающим, что сидел между лейтенантом
и водителем. Солдат был жив. Безумные его застывшие глаза были полны ужаса.
Было непонятно, почему он оставался живым. Вся его нижняя часть была смята
огромным камнем, тем самым который снес голову лейтенанту и расплющил
водителя. Но солдат был жив, он смотрел и дышал.
Коренастый человек сразу оценил ситуацию, скривился и
сплюнул под ноги. Поморщившись от боли в левой руке, он деловито поднял
обломок скалы потяжелее и, не глядя, просто опустил его на голову солдату.
Камень влажно хряскнул и остался на месте.
Тут же, словно кошка, мягко и бесшумно человек вспрыгнул на изогнутый
бампер, лег животом на перекошенную дверь кабины, просунул правую руку в
щель, пошарил на теле лейтенанта, вынул из кобуры пистолет, затолкал его
себе в карман. С трудом извлек залитую кровью полевую сумку, бросил ее на
землю. Затем перегнулся, заглянул в кабину с другой стороны. За
искореженными сидениями рука нащупала старый комбинезон и промасленную
гимнастерку.
Со всей своей добычей человек спрыгнул на дорогу, поднял
сумку. Глаза его постоянно зыркали по сторонам, вся его мускулистая фигура
постоянно пружинисто сгибалась, словно прячась, словно стремясь сделаться
меньше, незаметнее. Человек ловко одним движением стянул с себя куртку,
надел комбинезон, проверил содержимое карманов.
А из разорванной крыши машины смотрело вверх на небо
ясноглазое лицо второго пассажира. Он улыбался, был недвижим, казалось, и не
дышал, - производил странное впечатление.
He спеша, как бы лениво он выбрался из
кузова и присел на ближайший камень, из-под которого широкой лужей натекал
бензин. Присел, уперев руки в колени устало и покойно.
Коренастый закончил переодеваться, смотал свои старые
вещи, бросил в набежавшую лужу, притоптал ногою. Открыл сумку, достал новую
пачку "Беломора", коробку спичек. Прикурил и, присев на корточки, поджег
пропитавшуюся бензином одежду.
Полыхнуло, загудело пламя в искореженных баках, дыхнуло
жаром.
Скоро вспыхнула и та часть горючего, рядом с которой сидел
на камне ясноглазый. Он встал, удивленно глядя на огонь, сделал несколько
шагов назад.
Из-за спины услышал резкий смех:
– Што, паря, бёнть, тепло?! Ха-ха-ха... То-то...
Он оглянулся и увидел своего напарника, извивающегося
рядом с языками пламени и клубами дыма в каком-то неистовом диком танце.
Человек подпрыгивал, размахивал руками, приседал, топал ошалело ногами
вскидывал голову и хохотал, хохотал, хохотал неудержимо, порывисто и
страшно.
В хищных отстветах разрастающегося пламени вдруг бросилась
в глаза одна деталь, заслонившая собой все остальное: между камней и
искореженного железа находилась человеческая рука. Пламя подкрадывалось к
ней, кожа на ладони вспухала, вздувалась пузырями, лопалась и обугливалась.
Рука, словно живая, от боли сжимала пальцы, скрючивалась.
Светлоглазый человек от этого зрелища, как подкошенный,
упал на колени, закрыл лицо руками и ничком повалился на землю. Он поджимал
колени к подбородку, корчился как от боли - его корежило .
– Э, братан, ты чего? - тут же оказался рядом с ним
коренастый, мгновенно оборвавший свой танец.
Деловито одним рывком перевернул корчащееся тело, ощупал
его, оторвал руки от лица, осмотрел всего?
– Цел что ль? А мне почудилось, что тебя какая-то
штуковина долбанула. Ты так грохнулся... Мало ли, думаю, что...Давай-ка
отсюда, давай, давай... А то щас и в самом деле долбанет...
Мощным движением он подхватил лежащего, поставил на ноги,
встряхнул за плечи и подтолкнул к обрыву.
На самой кромке каменистой пропасти словно вспомнил о
чем-то, резко развернулся, выломал разлапистую ветку и, орудуя ею, как
метлой, стал пылить, шаркать по каменистой поверхности дороги – заметая
следы. Вместе с веткой, пятясь, ступил на траву и только тогда шумно
выдохнул:
- Вот теперь порядочек! Рвем!..
Второй человек смотрел на эти движения безучастно. А может
быть и вообще их не видел.
– Ну?! - подтолкнул его коренастый.
Спуск был крут, нехожен, приходилось, чтобы не поехать
вниз, цепляться за траву, за кусты, за камни.
Пока добрались до отлогого места, пот заливал глаза, руки
были исцарапаны, ноги с непривычки гудели от напряжения.
Но только далеко от дороги, в низине, под сросшимися кронами деревьев
коренастый, шедший все время впереди, остановился, высмотрел местечко
поровнее и прилег, на спину, тяжело дыша.
Спутник его, задыхаясь, в изнеможении упал на траву радом.
Лежа на спине, коренастый протянул руку, сорвал с куста темно-красную ягоду,
пожевал ее, выплюнул и крякнул радостно:
– Ага! Бенть! Горькая…
В кустах что-то пискнуло, зашелестела трава. Человек, как
пружина, сжался весь, насторожился, замер, прислуживаясь. Шорох повторился
потише и подальше. Опасности в нем не было - это невидимое мелкое земляное
существо уползало от непрошеных гостей.
Коренастый вытер рукавом лицо, вытащил из-за пазухи
скомканную гимнастерку, бросил ее на растянувшуюся рядом фигуру.
– На-ка, смени гардеробчик...
А сам принялся детально изучать содержимое лейтенантской
сумки, вытаскивая все подряд - газеты, карту, письма, какие-то бланки,
документы.
Его спутник держал в руках гимнастерку и недоуменно
смотрел на нее, не зная что делать.
– Давай, давай, - встретил его рассеянный взгляд
коренастый. - Будешь у нас водилой во внеочередном отпуске! - он зычно
хохотнул и подмигнул своим узким глазом.
Свойство взгляда было у него удивительное - даже когда он
смотрел куда-то в сторону или вниз, все равно казалось, что видит он и
впереди, а может быть и сзади. Узкие черные, посаженные глубоко глаза,
прикрытые тяжелыми нависшими веками, как хищные ночные зверьки в засаде,
жили своей собственной жизнью и были всегда начеку.
Человек, склонив голову, поводил пальцем по карте, будто
разглаживая ее. Потом вдруг резко вскинул взгляд:
– Слышь, а звать-то тебе как, а? Меня, к примеру, Кистень.
Слыхал? Слыхал, говорю? Ну?
– А откуда там взялся огонь? – спросил, не поднимая головы
второй.
– Чего?
– Машина загорелась...
– Ну?
– Странно...
– Чего?
– Огонь...
– Ну да! Аккумулятор коротнуло, вот тебе и огонь.
Нормальная вещь.
Коренастый сопроводил свое объяснение решительным взмахом
руки, словно отмахнулся от возможных возражений.
– Меня зовут Павел Егупов. Двести шестая, часть четвертая,
- ровным голосом привычно проговорил светлоглазый, думая при этом о чем-то
другом.
– Ну да? - как можно спокойнее переспросил коренастый. И
снова опустил голову к карте, водя по ней, словно прилежный ученик пальцем.
Затем неожиданно зло зыркнул на Егупова из-под бровей, отбросил карту и в
один прыжок преодолел расстояние их разделявшее. Схватил Павла за ворот
куртки, сжал, захрипел прямо в лицо:
– Слушай ты, только не надо мне голову лечить! Двести
шестая! Где это ты видел здесь с трояками да за хулиганство?! Я ж тебя
своими руками придавлю, если почую, что чего-то черного удумал, гад! Ну! -
тряс он Павла.
Кистень сдавливал ворот куртки на горле Егупова и дышал
ему прямо в лицо. Он был намного сильнее, шире в плечах и резче в
движениях, поступки его были непредсказуемы и быстры. Этим он ошеломлял,
зная силу и усвоив цену внезапности.
Но Павел совсем не испугался рыка, тряски, угроз. Он
смотрел в глаза напавшему на него спокойно и даже ласково.
Руки Кистеня разжались. Павел прикрыл глаза и снова
положил голову на траву.
–Меня зовут Егупов Павел. Двести шестая, часть четвертая, - спокойно
повторил он.
–Познакомились, – неудовлетворенно проговорил Кистень и распрямился,
обошел лежащего Павла вокруг.
Захрустели под тяжелыми сапогами сухие ветки и сучья.
Над головой Павла он задержался, как бы в раздумье,
присел, вглядываясь в ссадину на лице. Сорвал травинку, стал кусать ее.
– Слушай, а ты не псих часом? Не из этих? – Кистень
неопределенно покрутил рукою в воздухе. – Может ты заразный какой и тебя
лечить надо?
– Пробовали.
– Что?
– Определить мою болезнь.
– И?
– Двести шестая, часть четвертая...
– Пошел ты. Видал я таких тихарей. Они тихие-тихие, а
горло лезвием в раз перерезают...
Кистень пружинно распрямился и сел на свое место рядом с
брошенной картой.
– Если правильно определить болезнь, человека можно
вылечить, - продолжил Егупов. -
Можно заставить любого считать себя пациентом.
– Чего-чего? Не понял, ты о чем?
– Можно ли излечить человека от веры его искренней?
– Конечно, - тут же ответил Кистень.
Егупов приподнялся на локте, посмотрел на собеседника.
– И ты знаешь универсальный рецепт?
– Не фиг делать! - браво гаркнул Кистень. – Во! – он
поставил кулак на кулак и сделал резкое движение, как будто что-то
сворачивает, потом тряхнул руками брезгливо, очищаясь от липкого, грязного,
противного. И гримасу при этом скорчил соответствующую. – От всех болезней!
– заржал он довольно. – Чтоб дурью не маялись...
– Да, сколько существует человек, именно такой способ
лечения считается наиболее действенным, - с горечью заговорил Павел. – Как
легко этим средством вылечить человека от его веры в то, что он может
летать... Обрезать крылья, плодить земноводных...
Егупов снова закрыл глаза и, заложив руки за голову, лег.
– Слышь, ты о чем? - не понял Кистень.
Он часто моргал, словно силясь удалить соринку из глаза.
– Лекарство, – проговорил Павел устало. – Обманутые,
обделенные, озлобленные люди инстинктивно ищут его в себе, заглядывают в
душу. Но душам их неведомо чувство раскаяния, неизвестно целительное благо
покаяния. Они, как во тьме малые дети кусаются, делая себе и другим больно,
отторгая излечивающий все свет любви...
– Ты чего? – раскрыл рот Кистень от изумления.
– Как тебя зовут? - вдруг поднял голову Егупов и широко
раскрытыми светлыми глазами посмотрел на коренастого.
Тот моргнул несколько раз, крутнул головой резко, сплюнул,
крякнул и рубанул ребром ладони стоящие рядом травинки, вскочил.
– Нет, псих, точно! Шизоид! Или дуролом... – сделал паузу,
посмотрел на лежащего. – Дундук и есть... Параша! Таких говорливых, как ты,
точно, не сажать, а лечить надо. Электротоком! Вот курва, а! Свет любви!
Бёнть! Лекарство! С чем ты его жрать-то собрался, на что намазывать, а?
Пучеглазый?!.
Павел смотрел на нервно расхаживающего и жестикулирующего
Кистеня и улыбался. Тот встретил его взгляд, остановился, снова сплюнул,
крутнул головой, зашипел, пнул ногой карту, двинул сумку. Сел, но тут же
вскочил опять, прошелся, сорвал пучок травы – мощная стальная пружина
сжималась и разжималась внутри сильного тела, не давала покоя, тормошила,
вскидывала. Глаза его при этом сверкали лихорадочными огнями.
Вдруг он подпрыгнул и с хряском сломил толстую ветку,
раскинувшуюся прямо над ним. Схватил ее как флаг, закричал что-то
нечленораздельное, замахал веткой, словно флагом на демонстрации, потом
рубанул ею траву, отбросил и сел на место.
С интересом наблюдал за его действиями Павел, старался
предугадывать шаги и поступки, но раз за разом ошибался. И почему-то своим
ошибкам ничуть не удивлялся.
Ломило спину, ныла ссадина на лице, но было и радостно
отчего-то, улыбка сама собой постоянно возвращалась, растягивая припухлые
детские губы.
Кистень замечал эту улыбку, она его бесила.
– Не, ну это ж, бёнть, да, дела?!
Вдруг он вновь подскочил к Егупову и встал перед ним на колени.
– Хех! Не, ну, а?! Во дела! – руки его тряслись, словно он
поймал что-то живое и теперь с трудом удерживал упругое, горячее,
непокорное. Было совершенно ясно, что ни малейшего следа от всего
предыдущего разговора не осталось в большой крепкой его голове, что
нахлынуло на нее нечто пьянящее, яростное, возбуждающее. - Во везуха! Это ж,
кому сказать, не поверят. Кранты! Ты хоть понимаешь, что с нами
случилось-то, петрушья голова?! – Кистень схватил Павла за руки и стал их
трясти в такт словам. – Очнись, паря, опомнись! Оглянись кругом! Воля!
Кистень вскочил, не в силах оставаться на месте, крутнулся
на толстых подошвах.
– Проедь он еще два метра – и всё! Ты это-то секёшь? Не
они, шакалы, а мы с тобой – в лепешку бы! Понял ты это или нет, дурко? Мы бы
с тобой счас мух кормили... Не, ну это ж надо, а, курва!.. Я как вспомню
скрежет – серпом по яйцам. Думал, уж в пропасть летим! Во пруха-то!.. Да,
точно, бог не фраер! Народ зря не скажет. Он все видит! Ведь почему-то
именно так тот камешек положил-то! Так распорядился! Кайф, бёнть! Век
помнить буду, как заново на свет родился... Гады, если б им так пофартила
судьба, они б ссали кипятком на колесо теперь и соображали, как бы до логова
до зоны обратно добраться, а на наши трупы им бы было насрать. Списали бы
под чистую на несчастный случай и все дела.. На-кось, подержи! – яро рубанул
он рукой воздух и схватил крепкими пальцами пучок травы. Рванул на себя
вместе с комьями земли, прижал к лицу:
– Воля! Воля, браток, сама в руки пришла! А ты такой отмороженный, будто
тебя на параше вздрючили... Веришь в судьбу?
Кистень снова подскочил к Павлу и затряс пучком травы перед ним.
– Я падла буду, как чувствовал, что вырвусь, что и ко мне
фортуна не всегда будет сракой стоять! Но что б так... Это ж чистяк!..
Со всего плеча он ухнул комок земли себе под ноги и пнул
вдогонку. Хлопнул радостно ладонями.
– Хотя, если словют, то все едино сто восемь восемь прилепят – по червончику
сверху. За убег. А то и сторожей этих, жмуров на нас повесят – мол, мы их
пришили... Так что могут и под вешалку... Ну, это – на-кось, достань
сперва!.. Я те вот что скажу, парень, мы выживем и хорошо еще погуляем.
Судьбе было угодно нас вызволить из ямы, она же и охранит нас... Слушай, что
я придумал... Раньше ночи они не схватятся. До зоны двести кэмэ, я слышал
как канвой шушукался. А когда хватятся, да доберутся сюда, разглядят что к
чему – искать кинутся в сторону Камшая, это вниз по дороге, ближайший пункт,
кил шестьдесят. А мы туда не пойдём! Греет выйти на жилье, на живых людей
вольных, укусить что-нибудь, запастись, и, пока сезон, рвать на материк, на
Запад. Нет, фигушки! Мы уйдём к реке. Я всё придумал. Тут по течению зимовья
должны стоять – отлежимся на заимке, отжируемся. А потом – по воде, по воде
– выплывем... Ох, ты ж распрекрасный же ты ж мой! Во-о-о-оля-я-а-а! –
закричал он и, закинув руки вперед, повалился лицом в траву. – Воля, –
прошептал чуть слышно и затрясся не то в смехе, не то в рыдании.
Павел приподнялся во время этого многословного
истерического монолога Кистеня и теперь сидел, прислонившись спиной к стволу
дерева. Старая линялая гимнастерка лежала рядом с ним – как сброшенная за
ненадобностью кожа. Егупов расстелил ее аккуратно, расправил. Грязную,
драную, ее, по всей видимости, уже давно использовали не как одежду, а как
тряпку – вытирали ею, подстилали, затыкали – вся она была в солидоле, масле,
пыли.
Павел раздумчиво тщательно сложил ее пополам вдоль, затем
рукава крест-накрест, затем еще раз пополам, и разгладил ладонью.
– Воля, – повторил он тихо. – Я думаю, правильно будет
вернуться к машине...
Кистень отреагировал на эти слова не сразу, хотя и видно
было сквозь травинки, как лицо его мгновенно натянулось, глаза хищно
сузились.
Приподнявшись на локте, он стал пристально рассматривать
Егупова, покусывая пересохшие губы.
–
Так будет правильно, – повторил Павел. – Тебе сколько
осталось отбывать?
– Много, – буркнул Кистень.
– Как бы там ни было, мне кажется, ты и сам в глубине души
прекрасно понимаешь, что я прав. Свобода не может быть получена путем
неправедным... Не выйти к людям ты не сможешь, голод погонит. А там сразу же
поймают. Тут же кругом зоны, куда идти? Всю жизнь прятаться в лесу, в
норе?.. В человеке должна главенствовать совесть, а не страх наказания или
жажда мести. Ты согласен со мной? Только отбыв положенное наказание честно,
получив документ об освобождении, ты сможешь жить нормально и быть
свободным... Закон...
– Закон?! – оборвал Павла Кистень, – какой такой закон?! Где ты его видел?
Отбыть честно.... Во сказанул...
Это значит, я должен сейчас выйти на дорогу, сесть возле камушка того и
ждать волков поганых с автоматами? Да? Чтобы они меня опять за проволоку?
Да? Ты, бёнть, даешь!.. Закон... А это ты видел? – Кистень выхватил из
кармана пистолет и направил его на Егупова. Глаза его при этом превратились
в прорези-щелочки. – Ану-ка возьми меня, попробуй! Нет, не для того мне
фортуна праздник именин справила...
Павел спокойно посмотрел на
пистолет.
– Тебя как зовут, Кистень?
– Так и зови.
– Константин, надо полагать?
– Нy
и?
– У человека должно быть имя...
– У меня есть
номер.
– Номер – для порядка. Но сначала ты – человек. А уж потом
преступивший по той или иной причине закон, а потому...
– Заткнись!
– Стало быть, имя у тебя должно быть, человече. Имя,
которым нарекли тебя в колыбели... Ты крещеный, Кистень?
– Слышь, а чего это ты опять мне зубы заговариваешь?
Сучишься?!
– Нам надо вернуться, вот что, – спокойно ответил Егупов и
аккуратно положил гимнастерку себе на колени.
Кистень захохотал, задергал головой из стороны в сторону,
затрясся конвульсивно.
– Нет на свете прегрешения, за которое бы человек не
держал ответ. Умножая грехи, ты умножаешь страдания, – дождавшись, когда тот
затихнет, проговорил размеренно Павел.
– Чего, чего? – подался к нему всем телом Кистень.
– Скажи мне, чему ты так радуешься?
– Дак воля! Во дурило. Фарт-то какой!
– А зачем тебе воля, Кистень? – Егупов смотрел прямо в
глаза и от взгляда этих светлых глаз почему-то делалось сухо во рту
коренастого, и бешенство закипало в груди.
– Нет, ты точно трахнутый по голове, больной что ли?! – не
скрывая злости, спросил Кистень. – Бёнть, на всю голову...
– Для нас это единственный честный путь, – повторил Павел.
– Я хочу, чтобы ты это сам понял...
– А я хочу, долболом ты ушастый, чтоб ты своей тупой
башкой скумекал, что щас я дам тебе по блевалке, и на этом все для тебя
закончится. И вопросы, и ответы, – огрызнулся Кистень и отвернулся, доставая
папироску, прикуривая.
Пару раз шумно выпустив дым из ноздрей, коренастый хлопнул
себя по тугой ноге.
– Не, ну это ж надо так в душу нагадить! Бильдюга, в
каракатицу бога мать! Вот уж... Тьфу, блевотина...
– Грех это, Кистень, всуе поминать господа...
– Пошел ты!
– Но...
– Заткнись, сука! – оборвал Кистень Павла сурово и стал
кусать мундштук папиросы, перебрасывая его из одного угла рта в другой.
Крупные его желваки заходили по угловатым скулам, как жернова.
Напряженное молчание, впрочем, длилось не слишком долго,
потому что сам же Кистень и заговорил снова:
– Не, ну это ж курам, бёнть, на смех! Это
ж кому расскажи, так обоссут! И правильно сделают! Чтобы зэку пофартило на
волю попасть, а ему в башку пришло самому снова в зону проситься,
собственными ножками га проволоку возвращаться... Ну где ты такое видел,
чухло, а? Кто тебе такое нашептал? Может в лазарете по телеку, падла,
высмотрел? По многочисленным заявкам передачи «Спокойно спите, легаши»...
Егупов молчал.
Да и не стал бы его слушать Кистень теперь, какие бы слова он ни произнес. В
вираж входил коренастый, руки в кулаки сжал и глаза свои сузил до
невозможности.
– А чего это ты все про грехи орешь, да про страдания, а?
Чего это ты без мыла лезешь? – Кистень направил на Павла свой жесткий взгляд, буравил его, стараясь
прожечь насквозь.
– Может ты из этих, из хлыстов? Сектант
что ли? Тo-то
я смотрю с самой погрузки у тебя видон насквозь приезженного!.. Ну, что
скажешь, умник, расколол я тебя с твоими проповедями?
– Нет, брат, ты ошибаешься. Я не сектант, –
проговорил спокойно Егупов, удивившись в очередной раз замысловатости
поворотов мысли своего собеседника.
– Ошибаюсь? Как же! – криво усмехнулся Кистень. –
Двести шестая... А грехи-ухи твои?..
– Все мы осужденные, все мы грешные...
Перед обществом, перед собой, перед будущим, если нет в душе бога...
–
Ох и звездишь ты маленький... Повидал я тех, кто по твоей
статье-то ходит, шарамыжников слюнявых... Так что лапши мы накушались,
дурика не ломай, колись - за что гражданин прокурор тебе часть четыре
прописал?
– Долгая это история и малоинтересная...
– А мы с тобой вроде как и не спешим, у
нас еще весь срок впереди, так ведь? Так что, давай, излагай свою туфту...
Павел сцепил пальцы длинных своих рук перед собой, положил
их на колени, поверх гимнастерки, спросил в задумчивости:
– Кем ты мечтал быть, Кистень, когда был
совеем маленьким?
–Я? При чем тут это?
–Мне интересно, кем ты видел себя, когда
был мальчиком. Наверное, как все, летчиком-испытателем или капитаном
корабля, подводником, или даже космонавтом... Ведь так? Верно?
Столь просто и проникновенно говорил Павел, что Кистень невольно поддался
его интонации, ответил, недоумевая:
–
Я ж пионером был, на горне дудел. Металлолом, галстуки, зеленый патруль.
Все как положено... Но чтобы подводником - нет... Я квасом, помню, торговать
хотел... Бочки такие большие знаешь - жарко, а он холодный...
–
Хорошо...
–
Еще бы. Ты хоть имеешь понятие, сколько они в день
загребают, недолив, перелив, с одной бочки-то?.. Но, стоп, - спохватился
Кистень, - этот-то тут при чем? Ты опять мне зубы заговариваешь?..
–
Ты, наверное, материалист, верно?
–
Чего? Чего?
–
Ты веришь во что-нибудь?
–
А то!
–
Веришь истинно?
–
Ну!
–
И готов страдать за то, во что веришь? - Воодушевленно
спросил Егупов, поднимая вверх руку.
–
Неа,- последовал быстрей ответ. - Вот страдать, это уж
спасибо , это пусть кто-нибудь пожиже...
Павел улыбнулся непосредственности скорого ответа.
–
Ты это чего? - тут же последовала реакция.
–
Считается, что принять страдания за веру - это достойно,
что это некая высшая...
Но закончить мысль Егупову не удалось. Кистень перебил
его, снова резко изменившись в лице:
–
Ты мне опять лапшу развешиваешь? При чем тут вообще вера-то?
–
Это ты меня спросил, я - ответил...
–
Не, ты долбанутый точно! – убеждённо проговорил Кистень. –
Вот сколько с тобой толкуем, ни фига не понимаю... Как с ментом, или с
марсианином....
Вдруг его словно осенило. Он выразительно хлопнул себя
ладонью по лбу:
–
Слушай-ка, а может быть ты шпион? А? Караулили-то вон
как! И двести шестая твоя - липа для отвода глаз...
Егупов улыбнулся и покачал головой, глядя на крепкую фигуру спрашивающего,
подавшуюся вперед и выражающую неподдельный интерес.
Про пистолет, которым совсем недавно Кистень угрожал, он,
казалось, забыл.
–
Ты что, опять? - выдохнул Кистень.
–
Очень интересно.
–
Чего?
–
Интересно узнать, в каком году ты живешь?
–
Что в каком? В каком и все... Ты что?
–
Про шпионов у тебя - откуда это?
–
А что? У нас в лагере сидели штук пять –
точно шпионы, сразу видать. Рожи у них такие...
–
Какие?
–
А то сам не знаешь? Жидовские, –
Кистень сделал выразительный жест рукой, который по его мнению должен был
исчерпывающе нарисовать портрет описываемого шпиона.
–
Они ж нас всех хотят с потрохами Израилю продать, всем
обрезание сделать и в свою веру перекрестить...
– Иудеи не крестятся, - серьезно сообщил Павел.
– Чего?
– Ты давно отбываешь?
– Шесть с половиной. С первого дня.
– За что?
– А ты кто такой, начальник, чтобы спрашивать? Всё - мое!
– Интересно.
– Дуракам всё интересно. Ну да - по глупости вляпался: один-четыре-пять. По
полной, с отягчающими...
Павел вновь улыбнулся своей детской улыбкой.
– Почему-то все всегда говорят, что по глупости.
–А то как же иначе-то? Именно дураками лагеря и переполнены. – Деловито
разъяснил Кистень. – Умными бы были, знали бы – как, зачем, куда и когда, не
попадались бы... Их на воле, умных, вон сколько, – отлично живут, умеют
выворачиваться, все им сходит…
И добавил неожиданно зло, словно подразумевая кого-то вполне конкретно:
– Суки!..
– А ты вот это самое - как надо - знаешь?
– Конечно!
– Тогда почему...
– Не знают этого только такие козлы, как ты, понял! Жизнь проста, как
жопа. И вся премудрость в том, чтобы ее не усложнять. В её кодексе всего
один параграф: или ты её, или она тебя...
Кистень произносил это уверенно, словно заученный текст, гордо и,
красуясь, чеканил слова. Видно было сразу, что эту сомнительную аксиому ему
приходилось и слышать не один раз и самому повторять как нечто само собой
разумеющееся. Эдакая вызубренная на все случаи жизни всё оправдывающая
заповедь.
– Кто схватил, тот а прав! – закончил тираду Кистень и для
пущей весомости и убедительности сжал перед собою внушительный кулак, так,
будто бы поймал, схватил тот самый основополагающий принцип жизни.
– Счастливый ты, – выдохнул Павел.
Он снял свои сапоги, размотал портянки и с удовольствием поставил босые
бледные ступни на траву, пошевелил пальцами. На белых его нежных
голеностопах явственно были видны голубые жилки.
– Знаешь ли ты, Кистень, кто такой Фауст? – после
недолгого молчания спросил он.
– Конечно, – тут же откликнулся коренастый. На понятные вопросы он отвечал
мгновенно, не задумываясь. – Фиксатый из четырнадцатого отряда что ли? Сто
сорок шестая, пятнашку тянет. Знаю. Он что, твой корифан что ли?..
– Нет, такого Фауста я не знаю... А почему он так
прозывается?
– Он на воле пляшку бормотухи, ту, что ноль восемь, одним
духом засасывал...
– Это серьезный мужчина.
– А ты пробовал? Сам-то? "Фауст-патрон" засадить одним
духом? Нy?
А ему – хоть бы ху...
Кистень проглотил слюну и радостно заржал:
– Потому он Фауст и есть!
– Это понятно... А вот настоящий Фауст, о котором я тебя
спрашивал, он давно жил, был ученым и всю свою жизнь стремился понять, как
же нужно жить, чтобы не зря. Терзался вопросами – зачем человек живет, в чем
смысл жизни...
– Козёл!
– Понимаешь ли, он хотел познать то, что нельзя познать. Но хотел этого
так, что не сомневаясь отдал душу дьяволу... Всего лишь за попытку заглянуть
туда...
– Слышь, ты опять про чего это? Куда он заглядывал-то? –
округлил глаза Кистень, не понимая.
– Я о том, что вот ты – счастливый человек, знаешь, как
нужно жить, в чем оно, счастье жизни... А многие этого не знают, мучаются,
ищут, страдают... Как их лечить от этого?..
– Это кто мучается-то? Ты что ли?
– Все мучаются, кто ищет ответы на вопросы в знании, а не
в вере. И кто выкручивается, как ты сказал, а не живет подлинно...
– Ты опять какую-то тюльку гонишь! Ни хрена не понимаю,
ушастый! А-ну давай по делу!
– Я и говорю по делу. Представь себе, Кистень... Как имя
твое? Не могу я кличкой кликать. С души воротит...
– Ну, Петр я, что с того, – выдавил неохотно Кистень. –
При чем тут это опять?..
– Хорошее имя у тебя, – расплылся в улыбке Павел. –
Гордое. Пётр. Пётр – значит камень... А фамилия?
– Иди ты знаешь куда?!.
– Пётр! Здравствуй, Петр... Как прекрасно имя твое... Вот
представь себе, Петр, что повезло тебе несказанно, и ты здесь в тайге, не
умерев с голоду, прожил месяц. Начались холода. А они начнутся очень скоро.
Так или иначе, но подаваться нужно к людям, к жилью. Чтобы выжить.
Естественно, ты просить не станешь. Одна дорога, стало быть – воровать,
отымать, таиться в баньке... А может быть ты ради пропитания и руку на
беззащитного поднимешь... Полушубок отнять или просто кусок хлеба... Места
же тут, сам знаешь какие – все по деревням друг друга знают. По следу
охотники сразу различают чужого. И на реке пришлый сразу же бросается в
глаза... Без документов, без одежды, с одной злобой в сердце, с единственной
надеждой на пистолет
– как жить тебе? Чем? Как добраться до мало-мальски людного места,
чтоб суметь затеряться среди людей, притаиться, отсидеться?.. Ладно, можно
предположить, что и тут тебе невероятным образом повезло, – ты выбрался к
порту. Вроде бы выжил. Но дальше-то что? Всё едино – одна у тебя и оттуда
дорожка – сюда... Тебе ж красивой жизни захочется, вина, женщин... Тлен и
мрак... И поведут тебя снова... И зачтется тебе...
– Ох и падла ж ты! Что ж ты в душу-то гадишь?! – не
выдержал Кистень, подхватился резко и снова схватил Егупова за ворот куртки,
рванул на себя. – Что ж ты, сука черноротая, каркаешь?! Придавлю как гниду…
– От этого сразу все изменится, – спокойно проговорил
Павел и попытался снять схватившие его руки. Но Кистень держал крепко,
жестко. Он набычился, глаза его налились кровью. Говорил раздельно и на
каждое слово встряхивал свою жертву.
– Я выберусь, понял ты, паскуда! Выберусь! Выберусь!
Выберусь!
– У тебя кровь, Петр, – ровным голосом сказал Егупов.
Тот сначала не понял о чем речь, потом разжав пальцы,
посмотрел на свои руки – по левой кисти алой полоской струилась кровь.
Он задрал рукав и увидел запекшуюся рану, поплевал на
правую ладонь стал обтирать ссадины: выше запястья рука была рвано порезана
и кожа сорвана. Павел вытащил из лежащей сумки листы бумаги и стал помогать
Кистеню, обворачивал рану, промокал, подсушивал. Окровавленные листы
выбрасывал, брал новые, сминал тщательно и прикладывал к ране. Когда
кровотечение унялось, Павел вынул из кармана своей куртки чистый носовой
платок – при этом Кистень скривился в ухмылке и боднул головой воздух, – и
этим платком кое-как на подобии повязки стянул пораненное место.
– Только бы заражения не было, – сказал при этом.
– Ерунда! И не такое заживало, – выдохнул Кистень.
Они сидели порознь. Между ними была окровавленная бумага.
Петр держал левую руку в правой и смотрел на нее, как на ребёнка. Павел
устало закрыл глаза.
Бесшумно под корявым стволом дерева появился бурундук.
Принюхался настороженно, оглядел всё бусинками-глазами и исчез снова во тьме
своего убежища столь же бесшумно.
Вдалеке слышно было, как противным голосом закричала
кедровка. Над распадком пролетел ветер, зашумели кроны деревьев. Ближайший
старый кедр заскрипел сучьями, застонал. Дробный сухой стук или треск
послышался снизу - не то сыпались, ломаясь, сухие сучья, не то принялся за
работу большой пестрый дятел.
Прямо над головой Егупова в еле заметной паутине появился хозяин - паук.
Потрогал заботливо ловчие свои снасти чуткими лапками и спрятался восвояси,
поджидая добычу.
Не открывая глаз, Павел спросил:
– Кто из близких есть у тебе?
Петр не ответил. Помолчали. Через некоторое время Егупов
продолжил:
– Родители твои живы?
Кистень не отвечал. Павел открыл глаза, взглянул на него.
Тот забыл о своей поврежденной руке, сопя от напряжения, возился с
пистолетом. Снимал с предохранителя, заглядывал в ствол, вынимал обойму. На
вытянутой руке держал оружие и целился куда-то, медленно ведя крохотную
мушку по просветам неба, стволам деревьев - вывел на лежащего перед ним
Егупова.
Они встретились взглядами через холодный прицел пистолета.
Кистень перекосил лицо, сощурив правый глаз, оскалил зубы и, прицелившись в
высокий чистый лоб Павла, стал медленно нажимать спусковой крючок.
Павел видел, как с трудом подается сильная пружина курка,
как от напряжения дрожит маленькая черная мушка на кончике ствола.
Раздался сухой металлический щелчок, клацнул механизм.
Павел вздохнул и закрыл глаза. Слышал, как еще несколько раз Петр имитировал
выстрелы, щелкая разряженным оружием, как потом вставил обойму на место и
спрятал пистолет в карман.
–...На сем камне я создам церковь мою, - едва слышно
заговорил Павел, не открывая глаз. – И врата ада не одолеют ея. И дам тебе
ключи царства небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на
небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.
После этого взгляды их встретились.
– Сколько тебе лет, Петр? – спросил Егупов.
– К вечеру они могут и вертолет вызвать не дождавшись
машины-то, – вслух рассуждал Кистень.
– Двадцать пять? Меньше?.. К тридцати, значит, выйдешь,
если не добавят срок. Это отличный возраст, можно начинать жить и многое еще
успеть... Ты на свободе что делал?
Петр усмехнулся, услышав вопрос, переспросил:
– На свободе, говоришь? Что я делал?.. А что все делают после детской
колонии, после малолетки? Воровал, что ж еще! – невесело проговорил Петр.
– Зачем? – наивно поинтересовался Павел.
– Что зачем?
– Зачем ты, Петр, брал чужое?! Это же нельзя! – искренне
недоумевал и негодовал Егупов. Сочувственная досада слышалась в его голосе.
– Не, ну точно, бёнть, долбанутый! Первый раз такого
вижу... И это ж надо – когда довелось-то... Даже мусора не задают таких
дурных вопросов... А уж им по штату положено... Слушай, как тебя, ты же сам
– двести шестая. Ларек, небось, по пьяни сковырнул, мелочевка... А туда
же... Рассуждаешь...
– Я не брал чужого, – серьезно сказал Павел.
– Тока своё, – кривляясь, подхватил интонацию Кистень. –
Гражданин судья, я думал оно всё наше, обчее, а тут меня и замели. Нe
виноватая я! Выпустите меня!
– Скажи мне Петр, – не обращая внимания на кривляния
Кистеня, продолжил совершенно серьезно Егупов, – вот когда ты крал, скажи,
ты же знал, что тебе грозит за это наказание? Знал?
– Ну!
– И что, сейчас ничуть не жалеешь о содеянном? Не
раскаиваешься, потеряв впустую столько лет? Как же ты можешь?..
– Мать родная! – воскликнул Кистень. – Чучело ты, бёнть!
Точно! На чердаке у тебя все веревки перепутаны...Если б меня в тот раз
корифаны не подставили, хрен бы меня кто взял! Ну им надо было основняк
унести... Да что ты понимаешь! Я после первой отсидки почти три лета
кайфовал. Тебе и не снилось такое... Эх! Вот гуляли! Водяры было море, девах
– как мух. Жил как король – мне ноги шампанским мыли... Да я тогда мог...
Что тебе, таракану объяснять? Дурко ты и есть дурко...
– То есть, ты хочешь сказать, если я верно тебя понял, что все годы
лишенный свободы, ты вспоминал только водку? И сейчас рвешься на волю только
за этим? Чтобы ноги помыть в вине?..
Столько боли и искреннего сочувствия было в этом вопросе,
что Петр на какое-то мгновение опешил. Крутнул головой, сглотнул слюну,
проговорил сдавленно:
– Не только.
– А что же еще? – с надеждой спросил Егупов.
– Воля – жизнь!
– Еще один ящик вина, кусок мяса, женщина. Так? И все
потолще да пожирней, послаще...
– Чего ты липнешь ко мне, зараза, со своими нотациями?!
Чего ты хочешь от меня?! – обиженно и зло ощерился Петр.
– Прости, но я хочу понять тебя, Петр. Мне страшно за
тебя... Мне хочется увидеть в тебе человека, понимаешь...
– Ты это че? Я ж человек и есть!
– Облик человеческий приняв, можно лишь есть, набивать
брюхо, пить, совокупляться, гадить, спать.
И так изо дня в день, изо дня в день...Что есть человек, Петр? В чем отличие
его от прочих тварей земных? Неужели же в количестве съеденного только? Или
в том, что вместо шкуры носит человек искусственную одежду? Петр, прости
меня...
– За что?
– Да, это наверное удобно и просто, и не вина это, но беда... Ловчить,
горбатиться, приспосабливаться к любым условиям, даже к лагерной
запредельной жизни. Выживать и не спросить себя ни разу - а зачем я,
собственно, живу? Что у меня впереди? Зачем столько усилий, столько мук,
столько греха?.. Жизнь ли это человеческая?.. Для того ли вдохнули в меня
огонек этот светлый и радостный, дав мне счастье увидеть мир, дав
почувствовать необоримую силу мысли и свет веры? Для того ли я пришел в этот
мир и принял его как дар?..
Павел сделал небольшую паузу, вздохнул и хотел продолжить,
но Петр неожиданно перебил его:
– А мне интересно, где ты был, такой говорливый, такой заботливый, когда
батя нас троих с матерью бросил, загулял и в тюрягу загремел?! Когда братьев
из школы погнали? Когда мать болела и жрать было нечего? Где ты был? Где
были все такие заботливые как ты? Книжки читать, в филармонии ходить на
голодный тощак не будешь! Жизнь диктует свои параграфы, а прокурор свои...
Вот он паял мне срок, зная, что мать остается одна, больная... Он по-твоему
– человек?..
Павел слушал горькие слова Петра, смотрел на его натянутое
лицо, на ходуном ходившие руки, и медленно становимся перед ним на колени.
Петр застыл, увидев это.
–Прости меня, Петр, прости, ради бога...
– Ты чего?
– Прости, может быть я и не прав. Но злобой исполнено
сердце твое. А пока ты не примиришься с собой, не искупишь прегрешения ,
побег твой будет смерть твоя...
– Ой, ой, ой! Раскудахтался петушок!
Похоронил он меня... Да я, как пить дать, тебя хлипака переживу! На
спор!
– Не говори так, Петр. Нe дано знать человеку
границ жизни своей. Тот, кто дает жизнь, тот и срок отмеривает...
– Ну да, как же, знаем, самый главный прокурор. Уж он-то
точно все знает и всё видит... Слышь, а ты в армии где служил? - неожиданно,
как всегда, вдруг перескочил Кистень на другую тему.
– Я не служил в армии, - ответил Павел.
– Закосил?
– Как это?
– Белобилетчик что ли?
– Я не знаю. Наверное... А почему ты спрашиваешь?
– Да вот подумал, что если бы тебя, бёнть, призвать в наши доблестные
внутренние войска, ты бы зону клево сторожил! Это ж таких поискать еще!
Подошел бы к тебе из тех, кто половчее, кто такую публику, как ты, насквозь
сечет, и сказал бы тебе: "Дяденька, у меня на воле мамка умирает, а меня
засудили напрасно, по наговору злых людей. У мамки никого больше нету,
некому за ней горшки носить, отпусти меня, дяденька, а!" И ты бы отпустил
зэка, поверил бы ему, пожалел бы... Ведь отпустил бы?..
Что-то злое и неприятное было в юродском плаче Кистеня,
что-то обидное и недостойное. Он специально гримасничал, чтобы подразнить
Павла, чтобы зацепить его.
Но Егупов вел себя совершенно неожиданно для Петра. Он
глядел почти с восторгом, медленно поднялся с колен, словно сиял от радости.
Кистень даже отступил на шаг от неожиданности.
– Ты это че?
Но вместо ответа Егупов подошел вплотную к Петру,
счастливо улыбаясь и глядя в глаза, обнял его и смешно, по-детски поцеловал
в щеку.
– Рехнулся окончательно! - оттолкнул его Кистень и ладонью
вытер лицо. - Очнись, дурко...
Павел же поклонился ему в ноги и проговорил, сдерживая
слезы в голосе:
– Спасибо тебе, Петр! Порадовал ты меня несказанно...
Глянь-ко, душа-то у тебя светлая, добрая. И прости меня, милый...
– Во пси-и-их! Ну, дела... Да я ж о том, что тебя, дурака,
свои бы за твою доброту к стенке поставили бы! Понял? Или упекли бы куда
подальше, да на совсем...
– Это все пустяки внимания не стоящие, Петр. А вот то
отрадно, что ты добро в себе носишь. Ликует душа моя, на тебя глядя...
Раскрыться тебе надо, очиститься, покаянием омыться...
– Чего-чего?
– Чистый душой человек, живущий по совести - свободен
духовно. Понимаешь, Петр, он везде свободен. Всегда. Во дворце, на цепи, в
келье, на кресте. Это подлинная свобода. Не плоть, но дух есть человек. И
жизнь его - это жизнь духа, для которого нет стен, нет проволоки, нет
преград. Понимаешь, Петр? Нет страха страданий, страха смерти. Человек выше
всего этого. Он - свет истины... И ты, ты сейчас...
В волнении переполнившем его, Павел вдруг пошел мимо
Петра, обогнул поляну, стал спускаться ниже по склону, цепляясь за кусты,
спотыкаясь о коренья, натыкаясь - словно сослепу - на стволы огромных
деревьев.
Кистень смотрел ему вслед широко раскрытыми глазами.
Скуластое его лицо вытянулось.
Когда Егупов исчез среди зелени, Петр словно пришел в
себя.
– Э, ты это куда? - Крикнул сдавленно.
Но лишь качнулась гибкая ветка, скрылся Павел в зарослях,
стал невидим, неслышим.
Один остался Петр под шумящими высокими кронами вековых
деревьев. И голос его прозвучал тихо, потерянно. И словно ему в ответ
раздалось из глубины тайги противное уханье и пересвист таёжной птицы.
Заскрипел от порыва ветра могучий кедр.
Петр окинул взглядом поляну, быстро подобрал сумку, карту,
подхватил оставленные сапоги и гимнастерку.
–Псих, точно! Долбанутый на всю голову! - сказал про себя и с этими словами
двинулся вниз по распадку в том направлении, куда скрылся Павел, и откуда
едва слышный доносился голос лесного ручья...
Павел стоял на коленях возле воды на камне и, набирая в
ладони воду, омывал себе лицо. После каждой новой пригоршни воды он поднимал
голову, распрямлялся - и струи чистого горного потока скатывались по щекам
на подбородок, шею, стекали на грудь. Выждав немного, Павел снова наклонялся
к ручью, зачерпывал новую порцию воды.
Лицо его при этом было спокойным, блаженным.
Кистень ловко перепрыгнул поваленное дерево, вышел на
скалистый уступ, прислонился к корявому изгибу толстой сосны.
Осмотрев видимую часть берега, перевел взгляд на круто уходящие вверх
скальные выступы противоположного склона. Поднял голову к небу, виднеющемуся
в просветах расступившихся крон.
Как раз над потоком кружил в синеве ястреб. Бесшумнo,
плавно парил и высматривал что-то внизу. Может быть, он видел и умывающегося
Павла, и остановившегося в тени Петра. А может быть и длинную серую ящерицу
заметил.
Она пробежала по горизонтальной ветви сосны прямо у ног Кистеня, пробежала
деловито, не останавливаясь. Петр проследил её путь до самого трухлявого
пня, где она и скрылась.
Этот участок берега был самым удобным для подхода к ручью.
Петр неслышно подошел сзади к Егупову, понаблюдал за его омовением. Затем
бросил на траву свою ношу, стал раздеваться.
Взвизгнув, он прыгнул в воду. Кряхтя, охая, стал шлепать
себя по бокам большими ладонями, отфыркивался от холодной воды, как молодой
конь. Иногда брызги долетали и до Павла. В лучах солнца они вспыхивали
каждый раз драгоценными искрами.
Ручей был неширок. Пробивая себе путь в скалах, петляя среди огромных
валунов, преодолевая постоянно завалы, поток был нрава крутого, непокорного.
Бился с остервенением в стены, дробил скалы, вытачивал десятилетиями в
каменных плитах плавные очертания, зализывая острые грани, покоряя твердь.
Именно такие вот норовистые малые речки, сбегая с гор и
сливаясь воедино, становятся могучими реками. И характер их разгульный,
неукротимый, вольный проявляется
уже здесь в верховьях.
В одной из округлых глубоких каменных ванн, веками
вылизываемых потоком кайфовал голый Кистень.
Его крепкое тело с покатыми плечами и буграми мышц было
сродни обточенным гранитам этим. Лишь неестественно белая кожа обнаженного
тела казалась хрупкой, беззащитной и была слишком ярким пятном а этой
глухой, таёжной, прекрасной картине. Только кисти рук и шея были коричневыми
- все остальное ослепительно белело в ярких лучах солнца.
Разламываясь от столкновения с громадной скалой, поток резко сворачивал к
крутому берегу, сужаясь и пенясь. А под камнем оставалась тихая заводь -
прозрачное, кружащееся озерцо - ванна в каменном ложе.
Её-то и избрал Петр для купания.
Павел смотрел
на резвящегося Кистеня, на животную радость плещущуюся в этом танце плоти и
брызг - и видел сияющий ореол вокруг мокрого тела, ореол переливающийся
всеми цветами радуги.
Рык потока, смех и крики Петра сливались в единую гармоничную мелодию. А
может быть это отвесные скалы противоположного берега рассыпали это
многозвучие, нанизывали эхо - словно сами пели...
По небу над ручьем бежали густые белые облака. Тот же
ветер, что качал вершины деревьев и шумел их кронами, гнал стада облаков на
восток. Порой облако набегало на солнце - и тогда вмиг гасли краски, брызги
потухали, не светилось мокрое тело.
Павел встал с колен и взошел на выступающий из воды мокрый скользкий
камень. Вода бурлила вокруг его ног. Лицо Павла было торжественным и
просветленным. Руки он поднял ладонями к небу. Петр, увидев лицо Павла,
замер в воде.
Он сидел, омываемый водами, по грудь, зубы его стучали от
холода, кожа стянулась пупырьями, по телу иногда пробегала крупная дрожь.
А из разрыва облаков именно в этот миг солнечный луч упал
на голову распрямившегося Павла - и она засветилась, засияли капли влаги на
лице.
У Петра перехватило дыхание.
– Совершите же достойный плод покаяния,- опустил плавно
руки Павел в сторону Петра. - И не думайте говорить в себе, отец у нас
Авраам, ибо говорю вам, что бог может из камней сих воздвигнуть детей
Аврааму...
Не мог Петр унять охватившую его дрожь, обхватил плечи руками,
– Уже и секира при корне дерева лежит, - продолжал ровным
голосом Павел. - Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и
бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее
меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас духом святых и
огнем...
Облака вновь сомкнулись, и луч вокруг головы погас.
Павел опустил руки.
И получилось так, будто он протягивал их просто для того,
чтобы помочь Петру выйти из скользкой ванны. Кистень, не сводя глаз с Павла,
дрожа всем телом, протянул ему свою руку и с трудом вышел из воды на теплые
камни.
Павел разомкнул свои ладони и Петр лег к ногам его на нагретую солнцем
плиту, прижался к ней, впитывая тепло, согреваясь. Егупов присел рядом с ним
и стал смотреть, как из под повязки на левой рук» вытекает тоненькая
струйка алой крови, как она, смешиваясь с чистой водой, стекает на
шероховатый камень.
Вдруг он наклонился и поцеловал эту руку. Кистень, лежавший лицом в другую
сторону, казалось, не заметил этого.
Ветер усиливался.
Облака сбились в плотную кучу и беспросветной пеленою застелили солнце.
Сумрачно сразу сделалось в проточенном потоком ущелье.
Петр зябко поежился, посмотрел на небо, вскочил, так и не
обсохнув, проворно оделся, сунул ноги в сапоги и прочно потопал о землю,
привычно, сноровисто. Еще раз взглянул на плывущие густо облака и облизнул
посиневшие губы.
Крякнув, работяще стал мощно обламывать сухие ветви с упавшего ствола,
поднимать сушняк, сваливать все в кучу. Готовил кострище, выбрав место под
выступом скалы.
– А ты чё пнем торчишь? - бросил он Егупову. - Счас как
даст! Посидишь тогда...
Павел послушно встал и направился в поисках топлива выше по руслу ручья.
Обойдя скалу и выйдя на темя соседнего камня, он заметил в склоне расщелину.
Она была достаточно широкой, в неё мог залезть человек.
Пробрался к ней.
Глянул.
На месте перелома огромного каменного пласта образовалась довольно
просторная пещера. Свод ее был высоким и узким. Из темной глубины веяло
сыростью и холодом.
– Эй!- тихо позвал Павел. Каменное пространство тут же
наполнилось его голосом и отозвалось зычным эхом. И что-то тревожно
зашелестело в глубине, зашаркало.
– Пётр! - крикнул Павел, выйдя на скалу и сложив руки
раструбом. Голос понесся по ущелью. Но грохот потока оттолкнул зов, не дал
Кистеню его услышать. Павел спустился с камня.
Когда он увидел Петра, сидящего над кучей сушняка и старающегося разжечь
костер, то снова крикнул:
– Пётр!
На этот раз тот услышал, повернул голову на голос.
Павел махнул рукой, - мол, иди сюда. И сделал это так выразительно, что
Петр сразу понял, распрямился и пошел к нему...
...Они сидели на камнях возле пылающего жарко костра, щурили глаза на
пламя и протягивали растопыренные ладони – вбирая тепло.
Огромные сизые зыбкие тени метались по крутым стенам
пещеры. Треск дров, пышущих жаром, был оглушителен.
За померкшим узким входом пещеры серой пеленой шипел дождь
Косые струи хлестали по прилетающим скалам. Камни, отдавая накопленное за
день тепло, дымились.
От взмокшего комбинезона Кистеня тоже шел пар. Петр радостно потирал
согревающиеся ладони и кряхтел, как в бане. Павел сидел, сжавшись в комок,
подобрав ноги, не отводил взгляда от жарких угольев.
– Ох и жрать охота! - выдохнул Петр, облизал горячие губы
и с трудом проглотил шершавый комок.
Егупов, не отрывая взгляда от огня, расцепил руки,
похлопал себя по карману куртки и достал завернутый в бумагу кусочек сахара.
Протянул его Кистеню.
Их руки встретились над костром. Петр взял кусок и отгрыз
половину. Остаток на ладони лодочкой вернул Павлу. Тот принял и собрал с
руки сахар губами.
Подбросили еще дров. Затрещал костер, искры поднялись к
самому своду. Петр сел спиной к огню. Сцепив крепкие руки на груди он ощутил
в кармане пистолет. Вытащил его, взвесил на ладони.
– Я сейчас, - буркнул он и вышел под дождь.
– Куда ты? - спросил Павел, но косые потоки дождя уже скрыли фигуру Петра.
Тень от сгорбленной фигуры Павла нависала над костром.
Пламя, танцующее на смолистом сухом полене, заставляло эту
тень плясать под сводами, кривляться.
Сизоватый налет пепла на полене, словно многочисленные
крылышки невесомых бабочек, трепетал от движений воздуха. Под ним алели
уголья. Жар светился то малиновым, то голубоватым светом, заставлял крылышки
срываться и взлетать вверх.
Павел смотрел на огонь и ему открывалось дивное
многообразие оттенков и колебаний - пламя представлялось ему живым, дышащим.
Следя за полетом искр, Павел поднял голову к озаренному своду и ахнул
изумленно: только теперь в свете костра стало видно, что гладкие стены
пещеры разрисованы черными и охристо-красными фигурами. И прямо перед взором
Павла было изображение человеческой фигуры с длинным острым копьем. Выше и
правее, уходя в темноту, изображены были многочисленные животные - скачущие
олени, массивные лохматые быки и даже мамонты с загнутыми бивнями.
– Господи, спаси и помилуй! Воля твоя превыше всего! - восторженно встал
Павел и приблизился к нарисованному охотнику.
В колеблющемся свете костра эта вытянутая фигура вооруженного человека
исполняла ритуальный танец, а может быть и повелевала: у ног ее
располагались другие фигурки людей, маленькие, нескладные, сбившиеся в
неравномерные группы. От этих маленьких человечков пунктиры коротких стрел
летели во все стороны, поражая разнообразных зверей. И над группками людей и
над Большим Человеком можно было рассмотреть еще какие-то красноватые знаки
в виде перечеркнутого колеса. Но все они находили очень высоко, под самыми
сводами пещеры и понять, что означают они, не удавалось. Рассматривая их,
Павел вынужден был шаг за шагом отступать от стены, задирать голову.
Выхватив из костра горящее с одного конца полено, Павел,
как с факелом, пошел с ним вглубь пещеры. И нашел на стене продолжение
рисунков. А ниже - на уровне глаз - явились ему отчетливые отпечатки
человеческих ладоней. Красные, словно вырезанные из драгоценной породы
дерева.
Павел приложил свою левую ладонь к самому отчетливому ближайшему отпечатку
и вздрогнул: камень, вопреки ожиданиям, был сухим и теплым, как сама ладонь.
Широко расставленные пальцы были коротки и массивны,
ладонь была широкой - намного выдавалась из-под сухой и белой кисти Павла.
Коптящий факел давал немного света, но и его было достаточно, чтобы увидеть
как уходила цепь отпечатанных ладоней вглубь пещеры. Медленно шагая вдоль
стены, присматриваясь к нескончаемой веренице изображений, Павел остановился
возле отпечатка маленькой ладошки, ниже всех прочих: это был след детской
ручонки.
Слезы выступили на глазах Павла.
Погас факел.
Тьма сомкнулась, стерла изображения, сделала их снова
невидимыми.
Павел был переполнен волнением. Гордость и сочувствие испытывал он – и
сияла перед глазами, словно в луче солнца – маленькая детская ладошка, как
знак, как послание, как благословение...
Вернувшись к костру, Павел встал на колени, сжал перед собою руки и
посмотрел на сжимающего копье Большого Человека.
В это время снаружи послышался выстрел.
Тут же второй.
Павел подошел к выходу, выглянул наружу, но ничего не
увидел. Дождь лил, не переставая, небо сделалось совсем низким, тяжелым.
Слева от расщелины в выемке плоского камня собралась дождевая вода
маленьким прозрачным озерцом. Павел зачерпнул пригоршню, попил с ладоней.
– Эге-гэ-эй, – донесся до него радостный крик Петра снизу
из-за скалы. Затем и сам он явился к пещере – промокший до нитки, радостно
возбужденный. С огромной рыбиной на руках.
– Ленок, бёнть! – запыхавшись, счастливый, доложил Петр,
подходя. – Там на перекате, смотрю – хвост... Ах, ты, думаю, зараза... Кайф,
да? Жаль, что соли нет...
Влажно шмякнув тяжелую рубину на камень, он зарыготал:
– Живем! А? Гыг-гы-гы... Как я его, а?!
И тут же без перехода, заметив слабое пламя костра:
– Что ж ты суховину-то не кинул. Гаснет...
Хлопотливыми движениями наполнилась пещера, ожила. От ног
Петра оставались мокрые следы.
Павел смотрел на диковинно пятнистое длинное тело рыбы, на ее большой
круглый глаз, на растекающуюся по камню кровь, на следы от мокрых сапог
Петра – и никак не мог одолеть в себе недавнее чувство озарения и восторга.
Не вполне понимая, что делает, он присел на корточки рядом с рыбой и
потроган пальцем плавник.
– Холодный, – произнес тихо.
Кистень подбросил дров в огонь – пламя тут же разрослось,
наполнило пещеру красноватым жарким светом. Петр раскрыл лейтенантскую
сумку, приговаривая:
– Так, где ж я тебя тут видел, маленькая?
A?
Aгa!
Он извлек из-под целлулоидной перегородки лезвие,
развернул бумажку, осклабился хищно:
– Живем, братаня!
Сейчас мы ей сделаем маленькое харакири! – Он ловко подтянул к себе за хвост
ленка. На полу осталась кровавая дорожка.
Ловко надрезая, помогая пальцами, Петр быстро отрезал рыбе голову. Хрустнул
переломанный хребет. Сверкнули прилипшие к камню чешуйки. Затем были
извлечены сильным рывком все внутренности, и от них отделены печень и
широкие прослойки внутреннего жира.
Петр все это время что-то говорил, улыбался, постоянно сглатывал
набегавшую слюну и подмигивал заговорщицки Павлу. Но тот ничего не слышал,
он смотрел, будто зачарованный, на ловкие пальцы, испачканные кровью, на
матово сверкающий бок рыбы, на шевелящиеся губы Петра.
Смотрел и блаженно улыбался.
– Э ты чё? – тронул его за руку Кистень. – Слышь, чё
говорю? Рубай давай, это полезно. – Он протягивал Павлу на ладони кусок
чего-то розового и мягкого. – Рацион первой категории...
Сам Петр тут же опустил в свой широко раскрытый рот белую
ленту жира, стал жевать и причмокивать аппетитно. Так же он поступил и с
печенью, заглотнув ее большим куском. Слизнул с ладони и второй шмат
скользкого теплого жира.
Павел откусил небольшой кусочек от того, что дал ему Петр,
но ни вкуса не ощутил, ни запаха – только растеклось что-то маслянистое во
рту.
А Петр хищно и ловко разрезал рыбу на куски. Лезвием он
только делал надрез кожи, пальцами проковыривал мясо до кости, хребет же
ломал ударом плоского камня. Затем от заготовленной сушины отломил прочные
длинные прутья, почистил их от лишних веточек, нанизал, как на шампур, куски
мяса. По два на палку. Одну взял сам, другую протянул Павлу.
Жир капал с куска на уголья, вспыхивал яркими точками.
Кожа под чешуёй бугрилась, темнела, мясо на срезе подгорало, выпаривалось.
Кистень пробовал отгрызать зубами поджаренные части, крутил головой,
отплевывался, шумно дышал. От горячего мяса валил пар. Подбородок и щеки
Петра лоснились от жира, были вымазаны сажей.
– Красота! – сладострастно воскликнул он и шумно выплюнул розовую кость
прямо в огонь. Тут только заметил, что Павел сидит со своей порцией рыбы
вдали от костра и как бы безучастно.
– Эй, а ты чё, не жрешь? Витамины ж! Оно, конешно, если б
с котелком, то ушицу бы сварганили за милую душу, похлебали бы горяченького,
– он прищурился от взлетевших искр, помещая второй кусок поближе к жару и с
таким расчетом, чтобы палка не занялась. – Ешь, давай, жуй, что дают. Горячо
сыро не бывает!..
Кистень великолепно вписывался в каменный фон пещеры, в дымные отсветы
костра – точно так же, может быть и десять тысяч лет назад именно на этом
месте точно такой же человек – вот он изображен на стене, -
ел для поддержания сил, чтобы завтра снова выйти на охоту и снова
добыть себе пропитание...
– Посмотри туда, Петр, – сказал Павел раздумчиво и показал
глазами ему за спину наверх. Кистень обернулся, поднял голову.
– Эхма, это еще что такое? – выпалил он сразу и громко
рыгнул, – это не ты часом намалевал? – Обернулся он вновь к огню и стал
переворачивать кусок над угольями.
– Это дивный знак, дивный день для нас Пётр. Вот так же
много-много веков тому назад здесь укрывались от дождя люди, грелись у
костра, разговаривали, рисовали эти загадочные картины. Там дальше есть
отпечатки их ладоней, среди них одна маленькая, детская...
– Иди ты! Тут что, дикари, выходит жили? Нy?
– Петр еще раз оглянулся и уже по-другому посмотрел на изображение Большого
Человека. – Вот это ни фига себе. Это ж кому расскажи, так не поверят... А
что если они и сейчас там в темноте сидят, притаились. Как выскочат, как нас
с тобой схавают...
– Вот смотри, Петр, это сцены охоты, – не обращал на него внимания Павел. –
Быть может это дневник удачного племени. Или наказ потомкам от мудрого
вождя...Как и где охотиться, как хранить огонь в очаге... Это наши с тобой
предки, Петр, посмотри на них... Они смотрят на тебя, они протягивают тебе
руки.... Они такие же, как мы... Что ты чувствуешь?..
Кистень ошалело переводил взгляд с бледного лица Павла на
фигуру нарисованного воина. На какое-то время он забыл о своей рыбе, опустил
палку в огонь. Но спохватился, выругался смачно, извлекая из огня свой
шампур, стал дуть на него, сбивать пламя.
– Испытываешь ли ты трепет, глядя на изображения этих
людей? – Продолжал говорить Павел. – Чувствуешь ли, как они жили? Во что
верили? О чем мечтали? – голос его под каменным сводом звучал торжественно.
– Чувствую, – отплевывался от дыма и обгоревшего мяса
Петр. – Поменьше работать, да побольше жрать, – пережевывая горячий кусок,
вставил он.
– Но ведь эти изображения нельзя съесть... Зачем же они
находили краски, сооружали лестницы, или помосты, зачем рисовали?
– Ну а чего ж, – пальцами пытался извлечь кость изо рта
Петр, –набив брюхо, можно и помалевать маленько... Тихий час... Отдых...
Телека и газет не было – вот и развлечение...
– Я чувствую, что все тут намного сложнее... И проще...
Потребностью души движим человек... Чтобы появились мы с тобой, Петр,
сначала здесь должны были жить эти люди, передавая из поколения в поколения
нравственные законы, чтобы, живя честно, праведно, чисто и мы
испытали подлинное счастье этой жизни. И чтобы в свою очередь передали свой
жизненный опыт детям... У тебя есть дети, Петр?
– Должны быть, - поперхнувшись горелой костью с трудом
ответил Кистень, и рукавом вытер выступившие на глазах слезы.
– Стало быть, ты женат?
– Не успел, некогда было, гражданин начальник...
– Грех это, Петр...
– Судьба такая... Ну да ничего-о-о, - сыто протянул Петр и облизнулся, - вот
выберусь, дойду до Покровска, там у меня такая телка, что враз тройню
отстругаем...
Павел, казалось, не слышал слов Кистеня, не видел, как тот
отчаянно рвал зубами полусырое мясо. Вскочив со своего места, Павел
возбужденно приблизился к самому огню.
– Какое это счастье, Петр, жить на земле, быть человеком!
Задумывался ли ты когда-нибудь, что живешь единственный раз - вот этот
самый, неповторимый, и что поэтому самое большое благо для человека - это
бессмертие его души?
– Ох, соли бы! - выдохнул с полным ртом Кистень.
– Великую гармонию даровал нам Господь. Лишь ощутить её, не противиться
ей, следовать за ней... Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют
землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны
милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они бога
узрят. Блаженны миротворцы, ибо они наречены сынами божьими. Блаженны
изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить на меня. Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков бывших
прежде нас. Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее
соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить её вон на попрание
людям. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И
зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в
доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли отца вашего небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон
или пророков: не нарушить пришел я, но исполнить...
Павел замолчал. Молчал и Петр. Потрескивали поленья. И
тени от двух фигур плясали на крутых стенах пещеры.
Павел сжал ладонями голову, словно унимая боль, присел поближе к огню.
В это время из-за входа в пещеру послышалось дикое рычание
и вслед за ним загромыхали камни. Вздрогнуло пламя костра. Глаза Ветра
округлились. Когда все стихло он шепотом спросил:
– Что это, а?
Павел сидел, не меняя позы, ничего не слыша и не видя.
Кистень дотянулся до него, тронул за плечо, подсел рядышком.
– Слышь, чё это было? ~ повторил вопрос Кистень, когда
Павел поднял голову.
– Так ученикам своим говорил Христос. Вы - свет мира. Не
может укрыться город, стоящий на верху горы... Чтобы они видели ваши добрые
дела... Понимаешь, Петр, очень важно, чтобы дела были именно добрыми. От них
- свет, потому что только добром совершается по-настоящему великое и
праведное... Даст бог, ты дойдёшь до Покровска, и родится у тебя сын. И
вырастет твой сын и посмотрит тебе в глаза - что ты передашь ему? Какие
духовные ценности, чтобы он достойно и гордо шел по жизненной дороге,
открыто глядя всем в глаза? Что дашь ты ему?.. Или ты хочешь, чтобы и он?..
– Нет! - вырвалось у Кистеня.
– Ты знаешь, они сопровождали его, и все спрашивали, как
им вести себя, как относиться к людям, как поступать? И он научил их: "Как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом
закон и пророки!» Ты понимаешь, что он имел в виду?.. Петр кивнул в ответ и
проговорил едва слышно:
– Да.
– Только дающему воздается...
– Ага... Но ты слышал, рычал там кто-то...
Егупов закрыл глаза снова и стал что-то шептать беззвучно. Губы его
шевелились едва заметно. Петр неотрывно смотрел на худое бледное лицо, на
тонкие прозрачные веки Павла, на пульсирующую у виске голубенькую жилку.
Он словно ждал, что, вот снова откроет Павел глаза,
посмотрит чистым своим взглядом и ответит, и разъяснит.
Но Павел уснул, как сидел, прислонившись спиной в стене.
Петр подбросил в огонь несколько чурок потолще, выбрал самую корявую
суховину и приспособил ее при входе в пещеру - помехой. Осмотрелся кругом,
подошел к спящему Павлу, свернулся у его ног калачиком, положив под голову
сумку, и скоро тоже затих.
Язычки пламени лизали поленья, угли жарко дышали.
Большой Воин с копьем в огненных отсветах оберегал сон
усталых путников.
Костер едва тлел, когда за входом в пещеру стало светлеть.
Куча серой невзрачной золы была на месте недавнего ярко-малинового
праздничного сияния.
После ночного дождя день рождался тихим и прозрачным. Солнце еще не
поднялось, но небосвод был уже светел, медленно развиднялся, словно
оттаивая.
Внутри пещеры было темно. Павел открыл глаза и посмотрел прямо перед
собой: у ног его, посапывая, как ребенок, спал Петр, иногда голова его
вздрагивала мелко и пальцы рук шевелились. От расщелины входа вместе с
тусклым светом истекал холодок утра.
Вдруг в просвете появилась лобастая медвежья голова.
Чутко поводя влажным черным носом зверь настороженно принюхивался к запахам
кострища, к сладким соблазнительным запахам, исходившим от брошенной рыбьей
головы, лежащей в луже крови. Видимо, она-то и привлекла его внимание прежде
всего. Павел видел, как медведь, тихо ворчнув, ловко подцепил рыбью голову
когтем, просунув лапу под брошенную поперек входа корягу, придвинул к себе,
взял зубами и исчез неторопливо, - только зашуршали камни под мощными
лапами.
Павел осторожно встал, зябко поводя плечами и затекшей
шеей, бесшумно поднялся, чтобы не задеть Петра, на цыпочках вышел из пещеры.
Радостно и глубоко вдохнул свежий утренний воздух и спустился к реке.
Космы белого тумана сплывали вниз по ущелью. Павел сразу
растворился в густой белизне.
Тут же вздрогнул и насторожился лежащий в пещере Кистень. Он сквозь сон
ощутил, что остался один. Пружинно разогнулся, сел, и лишь затем открыл
глаза и тыльной стороной ладони вытер вымазанный сажей рот. Зевнул протяжно.
Огляделся по сторонам, машинально подбросил дров в затухающий костер и
выскользнул наружу.
Егупов умывался на том же самом месте, что и вчера, на
удобном плоском камне. Он стряхнул с лица воду и замер глядя на розовеющий
восточный край неба, на прозрачные клочья тумана.
Кистень заметил его внизу у воды, остановился и,
отвернувшись к дереву, расстегнул, комбинезон.
Когда он спустился к воде и поравнялся с Павлом, тот
обернул к нему чистое свое лицо и проговорил светло:
– Доброе тебе утро, Пётр!
Отжавшись от камней на руках, Кистень склонил голову к
воде, вытянул губы трубочкой и стал пить с жадностью.
– Ох и водичка! Зубья ломит! – восторженно сказал он,
утираясь рукавом и размазывая по лицу угольную черноту.
Павел улыбнулся и прикоснулся к своей щеке – показывая
Петру, что у него испачкано лицо. Тот глянул на темные следы на рукаве,
нагнулся к воде и стал, отфыркиваясь и отплевываясь поминутно, умываться.
Темные волосы заблестели от капелек влаги.
Перепрыгнув в два приема мокрые камни, Кистень стал переступать по траве,
наклоняться, собирая пригоршнями ягоды и тут же заталкивая их в рот.
Брусники на этой полянке было много, гроздья ее ярко выделялись, умытые
дождем, на фоне зелени. Но еще не вся она была спелой, попадались ягоды и
вовсе зеленые, на что, впрочем, Петр внимания не обращал никакого, поедал
даже и с листьями, – лишь урчал от удовольствия.
Солнце тронуло своими лучами верхушки деревьев на далеких горах, сделалось
светлее, туман растворился - начался новый день.
Павел неслышно подошел к увлеченному сбором ягод Кистеню.
– К нам медведь приходил, – сказал он.
– Ну да? – повернулся Петр и выплюнул листья. – Надо было
меня толкнуть. Медведь – это же вкусно. Повялили бы мяска...
– Ты что, Петр, и его бы съел?
– А как же! У меня ж – о! – выразительно похлопал себя по
карману Кистень и заглотнул новую пригоршню ягод.
– И меня бы съел, если бы не было ни рыбы, ни медведя?
– Иди ты вообще... Скажешь тоже...
– У тебя же оружие...
– Ну и что?..
– Кто сильней, тот и прав.
– Ну?
– Съел бы... Ну да бог тебя простит и наставит, – поднял руку Павел,
собираясь идти к пещере, но тут явственно послышался шум вертолета.
Как порыв ветра, он налетел сверху, вдоль расщелины. Павел замер,
прислушался, поднял голову вверх. Петр отбросил ягоды, одним прыжком
оказался у ствола толстого дерева, прижался к нему, тоже стал смотреть в
небо. И когда большая зеленая с красными звездами винтокрылая машина
проплыла над ними и скрылась из виду, они встретились взглядами.
В глазах Кистеня, опять сузившихся до щелок, метались
огоньки страха. Губы
его кровоточили ягодным соком. Пальцы впивались в твердую кору дерева.
Павел же был спокоен.
– Ну вот они и прилетели, – проговорил он.
Шум вертолета опять стал слышен над лесом, но на этот раз
он не показался, удалился по дуге. Петр кусал губы.
– У, гады, нашли своих жмуров. Вдоль дороги летели... Ищут
где-нибудь поблизости место, сесть хотят... – Прошипел он. – Сволота...
Павел подошел к нему, положил руку на плечо, заглянул в
глаза.
– Мы прожили с тобой целый день, Петр. И я никогда его не забуду. Это был
очень светлый день... Они должны были прилететь, и они прилетели... Я пойду
наверх, Петр. Так нужно... Ты же поступай, как знаешь, только вспоминай
иногда, что я говорил тебе – тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не
многие находят их. Но человеком становится лишь тот, кто искренне старается
отыскать этот единственный путь - добро в сердце своем. И когда хоть одна
живая душа согрета твоим добрым делом и помнит о тебе и молится за тебя, –
ты жив, человече! Чтобы не было стыдно смотреть в глаза сыну, нужно жить по
совести... Я полюбил тебя, Петр, всем сердцем своим... Прощай...
Павел проговорил эти слова с огромным душевным волнением,
он старался неотрывно глядеть в глаза Петру, но часто слезы застилали ему
взор. В конце он порывался было обнять Кистеня или просто пожать ему руку,
но вместо этого просто опустил голову и пошел в сторону дороги.
Петр кусал себе пальцы, глядя вслед удаляющемуся Павлу. Он
никак не мог понять, что с ним происходит, ему так хотелось крикнуть,
позвать, остановить этого странного человека, так не хотелось, чтобы
навсегда тот исчезал среди зарослей. Но и позвать он не мог. Немо и рьяно
грыз он себе пальцы.
Словно почувствовал спиной, что вот сейчас оборвется
тонкая хрупкая нить, связывающая их, Павел остановился и оглянулся .
Петр держал пистолет в правой вытянутой руке наизготовку.
Его взгляд встретился с глазами Павла вновь через прицел.
Павел поднял руку и, не то попрощался с Петром, не то
позвал его за собой.
Дрогнула рука, опустился пистолет.
– Нет! – истошно завопил Кистень. – Нет! Никогда! Снова в
зону? Нет! Никогда! Я рву когти!.. Нет! Ни за что...
Он резко развернулся, исчез в пещере, тут же выскочил из нее уже с сумкой
в руках и, спотыкаясь, падая, побежал вдоль ручья вниз по ущелью, в
направлении противоположном тому, по которому двигался Павел Егупов.
Медведь был недалеко. Он слышал грохот вертолета, людские крики доносились
до него. Но он лишь приседал на передние лапы и скалился, цепко держа
когтями большую рыбью голову. Когда стихали посторонние шумы, медведь вновь
принимался за еду – с хрустом разгрызал костистый череп и жевал с
наслаждением сочное рыбье мясо.
Солнце поднялось над горами. В длинных ложбинах между хребтов скапливались
густые темно-синие тени. Розовели острыми гранями скалы.
Узкая красноватая ниточка дороги постоянно рвалась, перекрываемая
откосами, насыпями, густыми зарослями.
Вертолет держался на высоте триста метров и под ним
разворачивалась изрезанная ручьями, покрытая сплошь скальными выступами,
карта местности. Опытный военный пилот держал в поле внимания не только саму
дорогу, но и прилегающие к ней спуски, ущелья, косогоры. Особенно в тех
местах, где малоезженная эта дорога делала крутые повороты, петляла,
извивалась. Но ничего подозрительного вертолетчикам обнаружить не удавалось.
Гористая местность была совершенно пустынной.
Лента дороги, над которой кружил вертолет, казалась
нетронутой. Искомого объекта нигде не было, хотя вниз со всем вниманием
смотрели не только штурман и бортрадист, но и два офицера в салоне прильнули
к иллюминаторам, и с десяток солдат напрягали свое зрение.
Только на четвертом заходе, спустившись на критическую
высоту для данного рельефа местности – сто пятьдесят метров – командир
вертолета увидел сползшую по насыпи глыбу с черными подпалинами пожара.
Сделав для верности еще один короткий круг, чтобы все на борту убедились,
что это именно след машины, пилот передал по радио, что объект обнаружен,
что никого рядом не видит, назвал координаты, квадрат, и сказал, что уйдет
искать место для посадки.
Много выше вертолета над пиками хребта кружил в небе орел.
Ему с его высоты были видны и снежные вершины далекого горного массива, и
место впадения узкой речушки в широкую полноводную реку, синеющую за
горизонтом, и многое еще было видно – огромные бескрайние просторы
открывались ему.
Летал он на головокружительной высоте размеренно, спокойно.
Выше него было только солнце.
По оползающему под ногами склону подниматься было еще труднее, чем
спускаться с него. Хватаясь за острые выступы скал, Павел шаг за шагом
преодолевал свой путь наверх. Он тяжело дышал, его штаны на коленях были
разодраны. Взобравшись на плоскую замшелую скалу, Павел сделал привал, лёг,
ощущая затылком неровность камня, стал смотреть туда, где еле видной точной
в синеве плавно кружил горный орел.
Петр бежал по отлогому склону вниз по реке. Ноги скользили по сочнотравью,
лицо исхлестывали попадавшиеся колючие кусты. Приходилось кланяться толстым
ветвям деревьев, огибать или просто перепрыгивать груды камней,
перегораживающие путь. Там, где речка делала очередной поворот и низина
превращалась в сплошную каменистую россыпь, Кистень упал со всего маху.
Уткнулся лицом в камни и остался лежать недвижим. От отчаяния и боли не было
у него сил двинуться.
Вертолет приземлился много ниже на ровной площадке. Отделение автоматчиков
обучено выскочило из машины, выстроилось на поляне – все, как один, безусые,
юные, крепкие, они четко выполняли команды своего командира –поворачивались
налево, бегом направлялись к дороге. Два молоденьких офицера бежали чуть
позади. Экипаж вертолета проводил их взглядами, оставаясь на местах.
Четко и слаженно, словно многоногий механизм бежала группа солдат по
каменистой дороге. Ночной дождь размыл глинистые участки, пробороздил
потоками полотно, но никакие преграды не нарушали размеренного движения
солдат. Гулкий топот дюжины пар сапог разносился над извивами ущелья.
Петр лежал ничком, раскинув руки и вжавшись всем телом в жесткую каменистую
поверхность. Сердце его оглушительно стучало, дрожали неуёмно руки и горький
пот стекал по лицу за шиворот.
Прямо перед лицом Кистеня бугрился замшелый бок валуна, напоминая древний
доисторический череп крутолобого существа. В трещинках камня, словно
отпечаток исчезнувшего растения или таинственный знак, примостился
буро-коричневый лишайник. Среди переплетений шероховатых нитей Петр
рассмотрел движущуюся точку – медленно ползло полупрозрачное малюсенькое
насекомое. Розоватое, на длинных нелепых лапках оно шагало куда-то по своим
насекомьим микроскопическим надобностям и чутко поводило тончайшими усиками.
Тут же на камне, затаившись в углублении, поджидал в засаде свою добычу
хищник ростом с маковое зернышко – юркий, хлопотливый жучок с отсвечивающими
металлом челюстями и бронированной спинкой. Ниже у основания камня крохотный
фиолетовый слизняк нежился во влажной тени. Никакого дела не было ему до
того, что черный жучок, выскочив из укрытия, набросился на легкомысленное
розовотелое насекомое, расправился с ним ловко и споро и вновь затаился в
щели, карауля новую добычу. Мимо слизняка пробежали едва различимые живые
красные пятнышки, пробежали и скрылись в дебрях лишайниках.
Целый мир предстал перед глазами
Петра, мир которого он раньше никогда не видел, о существовании которого
никогда не задумывался – просто некогда было. И увиденный мир поразил Петра
своей многоликостью, глубиной и загадочностью. Один его, Кистеня, плевок был
бы для козявок этих всемирным потопом – такие ничтожные, а туда же,
суетятся, воюют, охотятся друг за дружкой, едят, бегут, прячутся, норовят
спастись, выжить, победить... Камень для них – целая планета...
Звенели над головою птицы.
Журчал невдалеке поток. Жгло ссадину на лице. Но еще
больнее саднило где-то в груди – будто там бритвенным надрезом открылась
свежая рана. И стучало в висках неотступно: прав! прав! прав! прав этот
псих, тысячу раз прав! Не дойти одному, не выкарабкаться. Камни грызть,
ногти ломать, подохнуть – это можно. Но не видеть свободы. Затравят вертухаи
собаками, обложат как пить дать! Крышка! Шиздец! Некуда деться...
Петр скрежетал зубами и слизывал с пересохших губ соленые капли. Плыли
перед глазами огненные круги и черно-фиолетовых рамках. Изо всех сил
старался Кистень не открыть глаз, зажмуривался шибче, словно отгораживаясь
от всего белого света. Долго лежал неподвижно, прижавшись к холодному камню,
ища у него защиты и спасения, – хотя и сквозь зажмуренные глаза била
наотмашь, стегала ясность – бежать дальше он не будет, не сможет... Уперся в
стену из камня... Нет ему дальше пути. Будь оно все проклято!..
Гулко топоча твердыми подошвами сапог по красноватой
подсыхающей глине, бежали солдаты вверх по дороге. Дыхание с шумом
вырывалось из тренированных грудных клеток, тяжело бряцали автоматы. Впереди
всех, метрах в двадцати, бежал молоденький офицер с пистолетом наизготовку.
Вдруг один из замыкавших солдат споткнулся, захромал и
присел на обочину. Стащив сапог, стал разматывать портянку. К нему тут же
подскочил офицер невнятно прокричал что-то. Отделение, не останавливаясь,
продолжало бег. Офицер от нетерпения топал запыленными сапогами и поминутно
вскидывал голову вслед удаляющемуся подразделению. Солдат, неуклюже
согнувшись, рассматривал стертую до крови ногу, морщился от боли и по-детски
качал ушастой головой.
Голос офицера сорвался на писк, когда он увидел, что отделение скрывается
за поворотом. От отчаяния он пнул солдата ногою в бок, понукая, подгоняя.
Солдат ойкнул, подскочив, натянул кое-как сапог и, сильно припадая на
поврежденную ногу, побежал следом за остальными. За ним точно шаг в шаг
бежал стройный, неестественно прямой, как рукоятка кнута, молоденький
офицер. Он бодро размахивал руками и постоянно оглядывался, не то от страха,
не то потому, что оглядываться было положено по инструкции. Скоро они
догнали своих.
Медведь покончил с рыбьей головой, ничего не оставил. Даже плоский камень,
служивший ему столом, и тот облизал. Длинным розовым языком тщательно
вылизал себе лапы и морду, поднял голову, принюхиваясь, поводя чуткими
ушами. По-хозяйски степенно косолапый покинул свою трапезную и вышел на
обломок скалы, нависавший над речкой. Постоял, словно примериваясь, затем
ловко по поверженному стволу дерева спустился ближе к воде.
Егупов встал с камня, посмотрел вверх на крутой склон,
который предстояло ему покорить, наметил ориентиром кривую сосну, выросшую в
расщелине и стал карабкаться вверх, припадая к земле, помогая себе руками.
День был наполнен обычными лесными голосами. Залитые
солнцем поляны звенели птичьими трелями. В травах гудели, жужжали,
стрекотали невидимые насекомые. Над цветами, словно пушинки, порхали белые
бабочки. Деловито в своих ажурных паутинах сновали пауки.
Мир был полон жизни, каждое
существо, любое растение радовалось солнцу, теплу, лету. Все упивалось
прекрасным божьим днем.
И у Павла на душе было спокойно, светло. Он поднимался по
склону все выше, и всё большее пространство раскрывалось перед ним. Когда
он, добравшись, остановился у корявой сосны и посмотрел на ущелье, на
голубую даль прорезанной речкою долины – ему захотелось лететь. Он набрал
полную грудь воздуха, раскинул пошире руки, поднял лицо к солнцу и закрыл
глаза. Ветер, поднимающийся вдоль склона,
ласкал его, обвевал, гладил. И капельки пота, выступившие от трудного
подъема на висках я на лбу быстро высохли.
Речка грохотала в каменистом ложе. Вода бурлила, пенилась.
Петр лежал на камнях лицом вниз и вдыхал прохладный горьковатый запах
перепревшей листвы, хвои, гнилого дерева, - и что там еще скопилось за
много-много лет среди этих камней, что там осело после бурных весенних
потоков.
Петр положил голову на руки и не двигался.
Трясогузка серая обыкновенная суетливая напуганная
нахально перепрыгнула с камня на камень, склонила несколько раз свою изящную
головку и оказалась в нескольких сантиметрах от человека, а затем
и вообще перебралась ему на спину, воображая, что найдет там, чем
поживиться.
Кистень шевельнулся.
Птичка отлетела на соседний куст и удивлённо стала рассматривать оттуда
движущийся предмет. Петр поджал ноги, обхватил их руками – словно пронзила
его острая боль. При этом рукав комбинезона задрался и на левой руке стал
виден платок, которым перевязана была рана.
С внутренней стороны он пропитался кровью, а с тыльной был изрядно
испачкан.
Петр провел вдоль повязки правой рукой и решительно встал. Повернулся и
пошел вверх по реке. Когда нагромождения старого каменистого русла миновали,
вышел на отлогий травянистый склон, пустился бегом.
Павел с трудом выбрался на дорогу.
Последние метры подъема были особенно тяжелы потому, что склон после
прошедшего дождя стал мягким, ноги не держались, съезжали, цепляться было не
за что. Выбирая места подоступнее, пришлось сделать довольно большой круг.
Но все-таки удалось выбраться. Измазанный глиной, взмокший, Павел поднялся
на дорогу и присел перевести дыхание.
Совсем рядом в двух метрах какой-то подземный житель
прочищал свое жилище – из норки периодически выбрасывались комья свежей
земли. Холмик возле норки рос. Иногда показывались деловито снующие палевые
лапки хозяина наводящего порядок.
Радостно было на душе у Павла, - и от близости домовитого этого зверька и
от того, что день был тихим и светлым, ну и конечно от того, что удалось
осилить склон, подняться на дорогу.
Немного передохнув, Павел встал и пошел вверх к повороту
дороги.
Тут же из норки высунулся хомяк, встал на задние лапки,
проводил человека взглядом и снова нырнул в хлопотах своих житейских под
землю.
Скрипели вымытые дождем камешки под ногами Егупова. Глина
налипала на подошвы. Дойдя до поворота, он увидел впереди плавно уходящую
вверх, огибающую склон, дугу дороги. Она была на всем видимом пространстве
совершенно пуста.
Сделав несколько шагов вперед, Павел поразмыслил и решил возвратиться.
Стало очевидно, что в поисках подъёма от реки он забрал слишком вверх и
миновал тот участок, где оставалась машина.
Нужно было возвращаться – она не могла быть очень далеко.
Скорее всего за тем самым выступам, где хозяйничал хомяк.
Но и ниже этого изгиба дорога оказалась совершенно пустой.
Поколебавшись какое-то мгновенье, Павел все-таки решил идти вниз. И скоро
за ближайшим же крутым поворотом ему открылся длинный ровный участок дороги,
в конце которого и случился обвал – там вдали виднелись на полотне огромные
глыбы, скатившиеся сверху, темнели подпалины пожара. Там же стали рисоваться
четко-четко на светлом фоне появившиеся фигурки солдат. Оставалось пройти не
более двухсот метров.
И теперь Павел ровно шел на открывшуюся каменную груду.
Егупов отметил, что солдаты стоят неподвижно и всё их
внимание обращено к раздавленной машине. Легко было понять, что огромные
камни упали на нее сверху именно в тот момент, когда она остановилась,
упершись колесами в камни на дороге.
Стояли, обнажив головы, молодые офицеры. Гимнастерки их темнели от пота.
Серьезными были лица солдат, не решавшихся пошевелиться, пока стоят в трауре
их командиры. Руки привычно сжимали оружие.
Павел шагал спокойно. Идти было легко.
Расстояние между ним и машиной неумолимо сокращалось.
Он шел, смотрел на людей возле машины и думал лишь о том,
как тяжело им видеть своих погибших товарищей. Чтобы обратить на себя
внимание он даже поднял вверх руку и даже хотел подать голос.
Но тут метрах в двадцати впереди себя он увидел, как
кто-то снизу вскарабкивается по склону в выходит на дорогу, тяжело дыша,
садится на обочину.
Павел сразу узнал Кистеня и прибавил шагу.
А Петр с трудом переводил дыхание, смотрел на приближающегося Павла.
Щека кровоточила свежей царапиной, пот заливал глаза. Петр
был явно доволен - он успел, он догнал. И когда Павел подошел, непрошеная
улыбка осветила лицо Кистеня.
Павел остановился рядом, улыбнулся в ответ. Пётр протянул
вперед руку и разжал кулак – на ладони лежал платок Егупова.
– Это твой, – тихо проговорил Петр. – Я не хотел бы
оставаться в долгу...
Павел взял
платок, сжал
в ладони и сказал одно только слово:
– Спасибо...
Не ждал
Павел возвращения Кистеня, и теперь острая и горькая игла пронзила его
сердце, стало больно дышать и голова закружилась. Не то от жары, не то от
явившегося предчувствия.
Он вскинул руку с платком
над головой:
– Мы здесь! Мы живы! –
крикнул он.
Голос
взлетел над дорогой.
До солдат оставалось метров
сорок.
Они услышали и заметили
идущего к ним человека только теперь.
Немедленно, подчиняясь
неслышной команде, выстроились они в шеренгу.
Офицеры оставались чуть
сбоку и сзади.
Все
двенадцать пар глаз внимательно и напряженно вглядывались в приближающуюся
фигуру.
Оружие было приведено в боевую готовность.
Павел шел
спокойно. Только никак не мог понять, почему так долго тянутся эти несколько
шагов, которые отделяли его от шеренги строгих солдатских лиц. Он шагал, а
они – словно отодвигались.
Солдаты видели, как рядом с
первой фигурой появилась вторая, странная, такая же истерзанная, измазанная
в глине.
Когда Павел
почувствовал рядом локоть Петра, он постарался улыбнуться ему и сказать как
можно более спокойно:
– Все будет
очень хорошо, – он поймал руку Кистеня и сжал её в своей руке. –
Это
правильный путь. Путь к подлинной свободе. Помни, Пётр – значит камень...
Уже совсем
рядом были солдаты. Рука Петра мелко дрожала.
– Начнут шмонать, –
сдавленно проговорил он пересохшими губами, – а у меня пистолет... Отдать...
Офицер
заметил странное движение приближающегося человека. Заметил, как извлечен
был из кармана пистолет. Моментально среагировал, вскинул свою тренированную
руку и первым выстрелил. Почти одновременно с ним все отделение нажало на
спуски автоматов. Десять очередей слились в раскатистый гром.
Гром
пробежал по ущелью среди светлого дня,
Петр и Павел
остановились, натолкнувшись на выросшую перед ними непреступную преграду.
Они увидели вырывающиеся из направленных ни них стволов тугие дымные вихри.
Они успели встретиться удивленными взглядами.
Беспощадные
пули скосили их, срубили, бросили на красноватую глину, которая, постепенно
впитывая горячую кровь, становилась еще краснее.
Они упали вместе на
полушаге.
Петр выбросил вперед руку с
пистолетом, который отлетел в сторону и покатился под откос.
Павел упал лицом вперед,
словно у него из-под ног вырвали землю. Рука его продолжала сжимать
окровавленный платок.
Они лежали в десяти метрах от шеренги солдат.
Солдаты стояли не двигаясь.
Оружие их дымилось, лица были непроницаемо строги. Пальцы жестко сдавливали
рукоятки автоматов и надежно лежали на спусковых крючках, готовые
подчиниться новой команде командира.
Над
дорогой повисла тишина.
Медведь
осторожно вошел в пещеру, прислушиваясь и принюхиваясь. Его пугал запах
костровища, но больше привлекал дух лакомой добычи. Войдя воровато в пещеру, медведь подцепил лапой два больших куска рыбы,
нанизанные на палку, подгреб к себе поближе. И тут же у входа в пещеру на
плоском камне вытянулся на брюхе,
прижимая
передними лапами добычу – как полновластный хозяин и этой пещеры и вообще
этих мест.
Держал свою кровавую пищу когтями цепко,
есть не начиная, точно зная,
что никто её у него
не отнимет...
*

________________________________________________
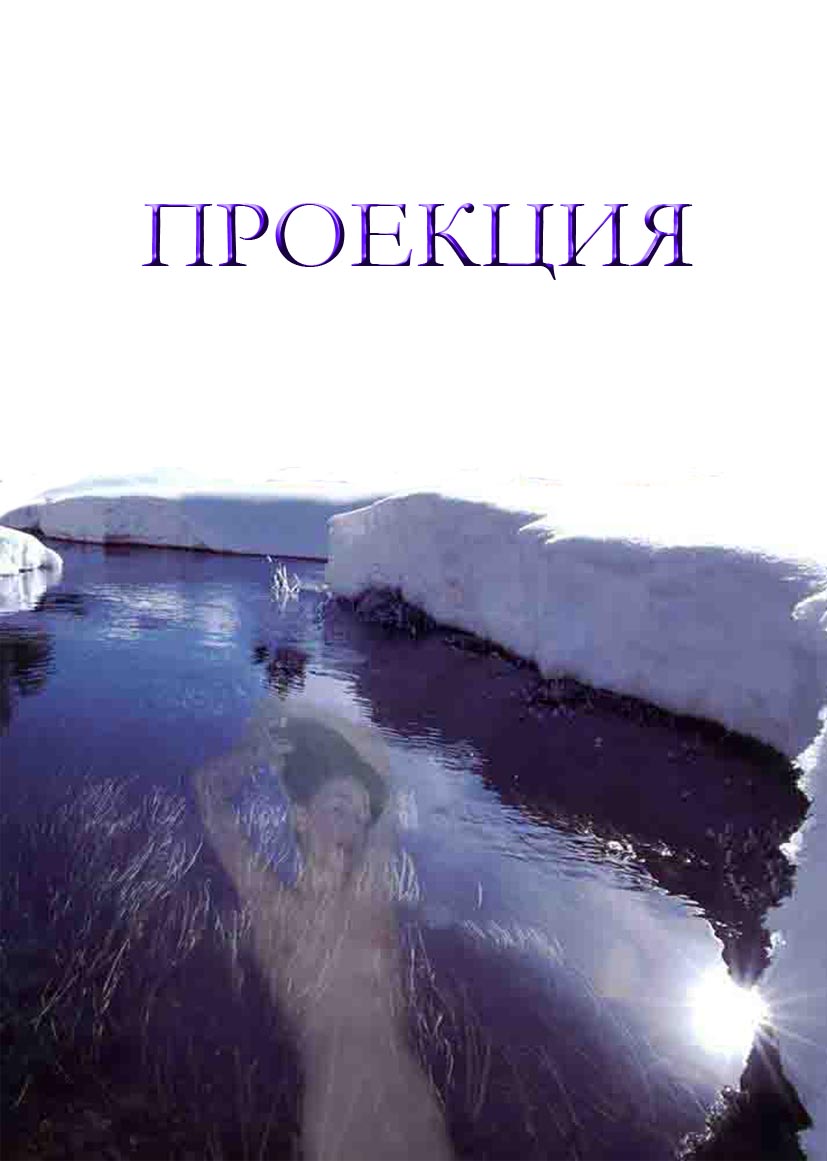
Анатолий пришел после
рабочего дня домой.
Аня копошилась на кухне, Танька рисовала
что-то карандашом на газете. Толя снимал туфли в прихожей, выглянула жена:
- Привет.
Он кивнул устало и
вздохнул, словно отгораживаясь от возможного вопроса. Но вопрос все-таки был
задан:
- Что так поздно?
Пришлось разогнуться и
выразительно посмотреть на жену:
- Что так поздно. Гулял.
Что я мог еще делать?
- Умывайся и иди ужинать,
гуляка.
Толя пошел переодеваться.
- Ну, здравствуй, дщерь,
как успехи?- подошел он к дочери.
- Не мешай мне,- деловито
заявила Танька, даже не оторвавшись от занятия.
- Так, понятно,- прошел
мимо Анатолий.
Во второй комнате был переполох, видимо, Аня что-то искала. На диване кучей
были свалены вещи, стулья громоздились по стенам и на столе. Раздеваясь, он
заметил, что в голове у него приятно пусто и никаких воспоминаний, никаких
угрызений совести, ничего нет. Всё шло нормально. Он непременно должен был
сменить рабочую одежду на домашнюю. Совсем недавно, каких-то пять лет назад,
для него не было разницы, в чем находиться в квартире. Теперь ему
неудобно было дома находиться в брюках и рубашке. Он обязательно всё
снимал с себя, аккуратно развешивал на плечики в шкаф. По дому расхаживал в
легких трикотажных спортивных брюках, в просторной махровой рубашке и
растоптанных домашних тапках. Но сначала он должен был принять душ. Холодные
струи постепенно возвращали телу растраченную энергию и
упругость. Хорошо было задержать дыхание и слышать только голос воды.
Она смывала все, она очищала.
Вытираясь, Толя накрыл себя
с головой большим мягким полотенцем.
Всё шло нормально.
Шло нормально всё и с утра. Если можно считать нормальным такую организацию
работы: лихтваген единственный прибыл на место вовремя, остальные машины
пришли с опозданием на полтора часа, и грузовая, и автобус, и микроавтобус
со съемочной группой. Но Анатолий не ругался, не выяснял отношений с
директором, он просто сухо и деловито отдавал распоряжения оператору
относительно того, с чего начинать, на что настраиваться. Сам он ожидание
совместил с разговором на свободную тему. За полтора часа успели поговорить
обо многом. Собеседницей была Инна Дочкина, научный сотрудник музея,
назначенный сопровождать съемочную группу. Женщина молодая и неожиданно для
научного сотрудника
привлекательная, она говорила мягко, вкрадчиво, но рассказывала при
этом весьма занятные и даже поучительные вещи. Незаметно перешли от вопросов
так сказать профессиональных, а точнее,
служебных к темам простым, бытовым, жизненным. Обычно Анатолия
раздражала манера женщин кривляться в разговорах
с мужчинами, и он бывал подчеркнуто краток с ними. Но Инна была
проста и непосредственна. Ощущение сразу появилось такое, словно знакомы они
давно и много лет общались. Беседа получалась простой и легкой.
- Ну, где же ваши?-
спрашивала, улыбаясь, Инна.- А то директриса увидит, что я бездельничаю,
разорется. У меня же есть еще и другие обязанности, кроме, как вас
сопровождать...
- Ну, уж это нет и нет. Мы вас на сегодня
у музея откупили, оплатили полный рабочий день, так что не извольте
переживать по поводу директрисы. Вы теперь не у нее, а у нас на работе. Так
что...
- Но действительно, уже скоро одиннадцать. Неудобно получится, если она
встретит.
- Видимо случилось что-то.
Но они выехали, я звонил в диспетчерскую, получил подтверждение.
- Давайте, тогда перейдем в
собор и там посидим, подождем, чтобы меньше попадаться на глаза. Хорошо.
- Хорошо. Тем более что у
меня как раз несколько вопросов есть узко специальных. Касающихся
непосредственно росписи собора.
- Всегда к вашим услугам.- Инна при этом так взглянула поверх очков прямо в
глаза Анатолию, что у того холодок пробежал по затылку. Впрочем, может быть,
это был всего лишь сквозняк при открывании
тяжелой двери возникший.
Они зашли в собор. Прошли через центральный неф к царским вратам.
Остановились, рассматривая резной алтарь. Говорили сначала действительно о
живописи, о росписях собора, о некоторых отдельных иконах. Потом неожиданно
без перехода, Анатолий
сказал:
-Вы знаете, Инна, я терпеть не могу общаться с приятным мне человеком во
множественном числе.
- Я тоже,- согласилась Инна, и продолжила рассказ о лике Предтечи. - Ты
видишь, какие у него глаза, чуть скошенные внутрь. Есть такой
лик и Иисуса. Странно, правда... Необычно. Здесь работали четыре бригады
живописцев, так вот весь этот неф…
Потом по винтовой лестнице
поднялись на хоры и обошли весь ярус.
Но разговор к теме самого собора и его убранства более не возвращался.
Выяснили, что Инна заканчивала исторический факультет педагогического
университета, а Толя режиссерский факультет театрального института. Она два
года работает в этом музее, и очень довольна, а сначала вынуждена была
несколько лет преподавать историю в школе, - настоящее испытание. А
он восемь лет на одной студии, теперь сотрудничает с образовательным
телеканалом. Присели на скамеечке. Виден был узорчатый пол внизу и арки,
расписанные фигурами святых угодников.
- Интересно, а почему в
храме всегда хочется говорить шепотом? - Спросил Толя.
- Акустика,- ответила Инна
тихо. Голос ее пробежал под сводами и спрятался где-то в горних нишах.
- А может быть не только? -
предположил Толя.
- Да, возможно, -
неопределенно проговорила Инна. Она стояла коленями на широкой
отполированной доске скамьи и смотрела вниз. Он тоже посмотрел туда, плечи
их соприкасались. Чтобы удобнее было стоять, Анатолий обнял Инну. Она ниже
опустила голову, так что каштановые волосы упали темным потоком, проплыли
взмахом над пространством собора. Горячая волна предчувствия пробежала по
телу Анатолия. Он смотрел на светлую кожу, обнажившуюся за ухом, на теплую
шею с родинкой, наполовину скрытую блузкой, чувствовал близость молодой
женщины, его волновала необычность ситуации, угадываемая доступность и еще
что-то острое, связанное каким-то образом с Аней. На миг он был вовлечен в
борьбу, перед ним всплыло почему-то заплаканное лицо жены, словно
остерегающее или укоряющее. Но это длилось всего одно мгновенье. Что-то
упорно стучало в мозгу, что все будет хорошо. То есть, что Аня никогда ни о
чем не узнает. Всё будет хорошо.
Анатолий, словно в
задумчивости опустил свою голову на плечо Инны. Она прикоснулась щекою к его
волосам. Руки их встретились, ладоням было горячо.
- Надо пойти посмотреть, не
приехали ли они,- неожиданно для себя и совсем не убежденно сказал Толя.
- Надо,- подтвердила Инна.
На винтовой лестнице, спускаясь вниз, он держал ее за руку. Идти было не
совсем удобно, и потому Инна второй рукой придерживалась за плечо Анатолия.
Он незаметно напрягал мышцы, чтобы ей удобнее и приятнее было держаться. На
одном из поворотов Анатолий сделал вид, что оступился, рука Инны скользнула
с плеча. Толя обернулся и поймал девушку в объятия. Крепко уперевшись руками
в его плечи, Инна внимательно посмотрела в глаза Анатолию. Его пальцы
вминались в мягкую и гибкую талию,
лицо едва не касалось вздымающейся груди. Желание пульсировало на
винтовой лестнице. Пауза длилась
томительная.
- Ну, что? - спросила Инна.
- Я чуть не упал,- ответил
Толя
- Я так и поняла,- не
отнимала рук девушка.
- Но я больше боялся за
тебя,- уточнил Анатолий.
- За меня бояться не нужно,
я эти лестницы знаю очень хорошо,-
мягко парировала Инна, так,
чтобы стала видна разгаданная ею уловка.
- Ну что ж, я больше не
буду... бояться.
- Очень правильное
решение...
Машин всё еще не было, и
Толя собрался уже снова звонить на студию. Но, подойдя к зданию дирекции
музея-заповедника, он оглянулся и увидел знакомую фигуру Юрия Яковлевича,
остановился.
- Кого ждем?- знакомо и
беззлобно пошутил директор картины, подходя в Анатолию.
- Я лично никого уже не
жду,- поддержал тон вынужденной шутки Анатолий.
- Совершенно напрасно, совершенно напрасно, мы уже вполне можем работать.
Прибыли без потерь
в полном боевом составе.
- Инна Игоревна, пойдемте, вы покажете чего нельзя делать прибывшим
своевременно
неуравновешенным кинематографистам.
Работа заняла в общей сложности часа четыре. Пока ставили свет, пока
разгружали и подключали, налаживали аппаратуру, пока
Анатолий решал, каким образом обойтись без трансформатора, пока дирекция
выясняла какую-то
очередную накладку с оплатой, Инна все время была рядом,
чувствовалось ее присутствие, словно что-то недосказанное висело между ними,
что-то неназванное. Ее присутствие даже помогало Анатолию, он порою
встречался с нею взглядами, обменивался вскользь какими-нибудь замечаниями -
и потому всё шло нормально. Он просто пустил всё по течению в русле
возможностей: нужно снять запланированный материал, исходя из имеющихся
средств, надо всё для этого сделать. И делалось
всё.
Потом, когда переставляли
свет для съёмки последнего эпизода - фрески страшного суда, Анатолий с Инной
опять оказались на хорах. Толя повторно дал все указания оператору, показал,
что именно он хотел бы увидеть, как надо снимать и "пошел посмотреть еще
что-нибудь интересное".
Через каких-то полчаса,
когда Анатолий сидел с закрытыми глазами на той самой скамейке в дальнем
углу хор и держал Инну за руки, положив голову ей на плечо, раздался громкий
зов:
- Толя! Ты где? Мы
закончили!
- Ну и прекрасно,- тихо
проговорил Толя и встал. Это был голос оператора.
- Я сейчас приду, ты
подожди меня, хорошо,- сказал Толя, не выпуская руки. Инна кивнула и
осталась сидеть.
Толя ушел, и его не было
минут двадцать. Потом, когда он вернулся, опустился на скамейку с шумным
вздохом, как садятся люди после очень тяжелой работы или большого волнения.
Он закрыл глаза и откинул голову. Юрию Яковлевичу Анатолий оказал, что пошел
кое-что уточнить еще по объекту, чтобы его не ждали и уезжали. Тот кажется
ничего не заподозрил.
Музей был закрыт. В соборе было пусто и тихо. Суровые лики старцев недвижно
смотрели прямо перед собой. Свет в сводчатых окнах казался голубым.
На подоконнике едва слышно стучал гигрограф,
поставленный здесь фиксировать показатели уровня влажности губительной для
древнего сооружения.
Губы Инны были теплыми и податливыми. Горячее влажное дыхание рта, движения
языка возбуждали. Блузка очень легко расстегивалась. Но когда руки дошли до
юбки и стали расстёгивать застежки, Инна шипяще рассмеялась, прошептала в
самое ухо: «Смешной, это потом» и изящным движением бедер отодвинулась.
Легкое прикосновение поцелуя пощекотало мочку уха, подбородок, шею.
Ее голова сползла на плечо, потом на грудь, потом на колени Анатолия.
Пальцы быстрыми и властными движениями расстегнули ремень и
зиппер. Толя не успел ничего понять, замер, не смея выдохнуть. Затем
сквозь расступающуюся цветную
пелену увидел насмешливую
гримасу танцующего скомороха на фреске и услышал тихий
вопрос:
- А ты не подумал, что
оскверняешь храм божий?
- А может быть наоборот,
освящаю любовь?- ответил он машинально. Инна тихо заливисто рассмеялась.
- Ну, что ж,
хорошо, мне надо еще к себе зайти,- встала она уже аккуратно
застегнутая и оправленная. Только глаза ее мерцали в темноте перламутровым
загадочным светом.
- Я подожду тебя внизу,-
встал и Анатолий, ему было почему-то не по себе, руки не находили места.
Отчаянно хотелось курить.
Инна улыбнулась, взяла его
за руку, повела по лестнице вниз. У двери поцеловала в губы и оказала:
- Я сейчас.
Очень своевременная
образовалась пауза. Толя закурил, сел на скамейку, огляделся и поймал себя
на мысли, что ухмыляется.
"Это ж надо!- подумал он,-
хоть и музей, но ведь все равно храм божий! Надо будет непременно покаяться.
Там же на хорах…»
Инну пришлось проводить.
- Заглядывай,- сказала она
на прощание.- Звони.
- Обязательно,- улыбнулся
Толя, и перед внутренним взором его еще раз промелькнуло ее очаровательно
нежное движение там, на хорах, когда она отстранилась.- Позвоню. Закажу
проекцию. Вместе посмотрим то, что сегодня отсняли.
- Будем надеяться. Пока.
- Привет…
Все складывалось удачно.
- Ну, ты что там, утонул
что ли?- послышался голос жены.
Анатолий заметил, что стоит
под душем с полотенцем в руках и вместо того, чтобы вытираться, просто
накрылся им с головой. И стоять так ему было приятно.
- Уже,-
неохотно откликнулся он и принялся одеваться.
Танька пила на кухне молоко, с ногами забравшись на свое любимое место у
подоконника. Аня гремела крышками. Всё было хорошо. Ужин был вкусным. Танька
счастливо хохотала на коленях у папы и показывала ему свои затейливые
рисунки. Аня гладила постельное белье в другой комнате. Позвонил Сергеев,
спросил Витькин телефон. А по телевизору после программы новостей должна
была начаться трансляция
матча кубка европейских чемпионов.
На завтра была намечена
съемка в другом музее…
*


эпизоды из жизни окраины
Итак, что мы имеем?
Простая
обычная трудовая семья:
муж, жена, трое детей.
И муж, и жена являются сотрудниками коммунального предприятия
отходоперерабатывающего комбината №2. Им в свое время по причине
многодетности предприятием
была выделена ведомственная квартира.
В полуподвале. Гуманно в соответствии с законодательством. Люди с большим
количеством разнополых детей тоже должны где-то жить. Размеры выделенной
жилплощади соответствуют минимальным санитарным нормам. Есть санузел,
отопление и вода. Рай. Все
правильно!
Глава
семейства работящ, прост и естествен. Он, как водится, пьёт. Одно дите по
сей причине родилось от него бракованным, с дефектами, недостаточно
физически и умственно развитым. Голову не держал до трех лет. Говорить начал
в пять, но и до сих пор только мать может понять, о чем же он
о таком бормочет. Врач комбинатской поликлиники советует отвезти его в
специализированный интернат для ему подобных, но Зинка не соглашается.
Говорит, что выкормит и этого не хуже чем
других, что время свое
возьмет, сын вырастет и все пройдет, все сгладится, станет, как
все. А то, что долго не разговаривает – так просто не хочет. Не
передались в полной мере потомству физические данные отца. Мужик крепкий,
пьёт не так чтобы слишком часто, но любит это дело. И вообще все любит, как
умеет - жестоко. Наотмашь. Чтобы вокруг все звенело и расступались океанские
хляби. Жизнь, стало быть, любит. Стаканом может под настроение закусить.
Также любит громко отправлять свои физиологические потребности в совмещенном
санузле с оторванной дверью и петь при этом диким голосом удалую казацкую
песню про гай зеленый и про Галю, которая несет воду. Очень любит исполнять
супружеский свой долг. Задолжал он жене своей, видимо, немало и потому
спешит восполнять, наверстывает в любое время дня и ночи при любом удобном и
не удобном случае в любом подходящем или вовсе не подходящем месте. Самец
неукротимый –
post
coitum
erectus.
Супруги уже не так молоды. Дочке старшей
пятнадцать лет.
Жену
главы семейства зовут Зинка. Именно Зинка, а не Зинаида, не Зина, не Зинуля.
Ее все так зовут. Она невысока,
носит по этой причине высоченные начесанные шиньоны
- этим способом
достигается
эффект под названием вторая голова.
Зинка убеждена, что именно таким способом всего легче
женщине становиться выше и представительнее. Для достижения этой же
цели и при толстых волосатых кривых ногах можно встать на
десятисантиметровые каблуки-шпильки. Зинка
упитана, туга,
крутобока и неряшлива. Её любимое занятие,
как и у мужа – совокупление, иначе говоря, постель. Помимо мужа для утехи
имеется у Зинки и регулярный любовник - кум. Живет тут же. Худой жилистый
и лысый. Имя его Федя. Ему пятьдесят шесть. У него подержанная
рихтованная "Волга", перелицованное старое такси ныне серого цвета. Почти
каждый день он выезжает из гаража, останавливается возле дома и к нему
выскакивает накрашенная Зинка. Жену Феди можно часто видеть на балконе в
халате,- она любит на балконе кушать семена подсолнечника и плевать шелуху
вниз. Она моложе Феди на двадцать лет. Она постоянно подкарауливает Зинку,
когда та ругается со своим мужем. А ругаются они постоянно. Потому что,
когда муж возвращается не в себе, он упрекает ее в неверности и грозит
телесными увечьями, иначе говоря побоями, гоняется за нею по пространству
полуподвала, а часто и
всего дома, так как Зинка имеет обыкновение прятаться у соседей.
Заканчивается же всё обычно тем, что Сашка догоняет Зинку, относит ее в
постель и всю ночь остервенело пилит свою жену «как врага народа». Потом с
гиканьем и свистом орет про гай зеленый. Погони, поиски, побои и оскорбления
стали уже привычной прелюдией, без которой и ночь не так горяча, и спится
работящим супругам не столь
безмятежно.
Да, так вот во время этих стычек между мужем и женой, выскакивает из-за
какого-нибудь укрытия или просто из темного угла Томка - жена Феди, хватает
ее – Зинку - за голову, то есть за волосья, срывает с нее парик и убегает с
диким криком: «У-у-у! Блядища-а-а!» Зинка на это всегда
реагирует одинаково. На следующий день, когда, замазав чем-нибудь подходящим
побои и следы укусов мужних на лице, она заскакивает в машину Феди, первое,
что говорит ему: пусть твоя недоделанная сраная прошмандовка идиотская
вернет обратно мне мой парик, не то я ей сучаре глаза выклюю! Федя твердо
обещает провести среди второй половины разъяснительную работу, чтобы
непременно возвратить пропажу. И отвозит Зинку на излюбленное
место, которое они присмотрели уже давно и именуют не иначе, как
«наше место» - маленький скромный тупичок тут же на окраине города.
Это грязная лесополоса неподалеку от забора заднего двора
отходоперерабатывающего комбината, представляющая из себя четыре ряда
густо-колючего боярышника чередующегося с высокими
засыхающими
пирамидальными тополями. Отвозит, останавливает машину и, закурив папиросу,
степенно перебирается на заднее
сидение, где уже снимает с себя линялые трусы смешная без парика Зинка. Окна
запотевают. А мальчишки местные, давно уж выследившие серую машину,
подкрадываются незаметно и подсматривают за происходящим на заднем сидении.
Неудобно, узко, твердо, жарко. Но ни Федя, ни Зинка, никогда не думают об
этом. Они не раз уже, находясь в компании
- а их семьи тесно связаны жизненным пространством и производственным
процессом на комбинате, дружат, соседствуют, -
вставали во время коллективного застолья
из-за стола, уходили в ванную
и запирались там. Как-то именно во время такой общей гулянки Саша от
нечего делать оттащил Тамару, которая сильно перебрала, к себе
в полуподвал и на койке старшей дочери, которая выругалась и ушла на
диван, фактически склонил к сожительству противоестественным способом без
всякого удовольствия вдрызг пьяную сонную свою соседку и жену сотрудника
производственного коллектива. Дочь младшая сидела рядом на кровати. Сосала
конфету и смотрела на рутинный процесс склонения не мигая. Сын-идиот спал,
как убитый. Старшая дочь с шести лет пользовалась отчаянно
грязной репутацией во дворе. Она могла за определенное
вознаграждение, сняв трусы, показать мальчишкам постарше все, что они
пожелают. Вознаграждением обыкновенно были конфеты «Белочка», «Грильяж» или
мороженное в шоколаде. Есть свою честно заработанную порцию мороженного она
начинала сразу же, не прерывая показа. Сладкое она с раннего детства очень
любила, и зубы, как у матери,
были ни к черту - мелкие и черные. В
перспективе – золотая челюсть – отличительная черта всех сотрудниц
предприятия перерабатывающего городские отходы. Женщиной она стала
просто и обыденно в одиннадцать лет. И сделал это всё тот же Сашка, ее
родной папочка, придя домой в состоянии крайнего алкогольного отравления и
не обнаружив своей крутобокой жены на положенном месте. Видимо сил на поиски
ее у него в тот вечер не было. А дочь была рядом. Та ничуть не
испугалась, просто
закричала от боли и убежала, когда после всего папка обрыгал ее подушку.
После этого она скоро сообразила, что грязные соседские мальчишки ей не
интересны и не выгодны, что она достойна большего и вознаграждение за
предоставляемое удовольствие может быть повышено. Сашина тетя Фира
пятидесяти девяти лет жила у него в квартире для того, чтобы числиться на
метрах проживания и присматривать за детьми. Она работала в свое время в
пивном ларьке и у нее было много денег. Саша периодически
и ей отдавал свой мужской долг, хотя тут вроде бы ничего
не был должен. А просто так
складывалась ситуация. Но тетя Фира
была этим очень довольна и чувствовала себя моложе своих лет. Денежки
аккуратно всякий раз перепрятывала и очень
ревниво относилась к похождениям Зинки.
Частенько нашептывала той, что действительно Саша ей не пара, что
Федя - это другое дело. Зинка не слушала. Ей было некогда. Зинка работала
сразу не четырех работах - в двух соседних магазинах грузчиком и сторожем,
Тете Фире очень нравилось, когда за Зинкой заезжала серая машина и увозила
ее в тупик. Она тогда красила губы ярко-красной зинкиной помадой, надевала
Зинкин импортный халат и готовила свое коронное блюдо - чесночный салат с
тертым плавленым сыром и майонезом. Съедала дочиста целую миску – и если
находила спрятанную бутылку, то выпивала ее
назло Зинке до дна.
Как-то
раз в
холодный ненастный день Федя допустил ошибку,
привез Зинку к своим приятелям в котельную, среди которых был молодой
и здоровый Иван, недавно вернувшийся из армии. Зинка тут же, не обращая
внимания на пьяные возражения Феди, восхищенно хихикнула и откровенно упала
под демобилизованного воина. Тот был тяжел, как танк и также крепок. Иван
жил в частном доме, мать его умерла. Старшая его сестра была тихой и
смирной. Все хозяйство было на ней, безропотной и
болезненно застенчивой. Старая дева в очках, любит читать толстые
женские романы и смотреть сериалы снятые по ним.
Зинка так увлеклась солдатом, что забросила дом, детей, фактически
перебралась к Ивану на дощатый топчан. Того устраивали ее деньги. А сестра
просто стала затыкать уши ватными тампонами в своей комнатенке за
перегородкой, чтобы не слышать беспрестанные
визги и стоны сквозь хохот. Но все равно слышала и
самозабвенно мастурбировала, попадая в ритм и кусая
до крови сухие губы. Тетя
Фира несколько дней ликовала, даже помолодела. Но Саша ликования не
разделял, напротив - как-то пришел с работы и сломал ей каблуком ботинка
нос. Федя вернулся к своей жене, щеголявшей в чужих париках. Саша стал
иногда наведываться в дом к Ване, жил со своей женой, пока хозяина не было
дома. И старшую его сестру ненавязчиво склонил к сожительству
противоестественным способом, когда пришел и Зинку в доме не нашел. Старшая
сестра снимала толстые очки и
сквозь слёзы шептала: «Да! Еще!»
Но Саша уже застегивал штаны и закуривал папиросу. Однажды осенним
холодным днем Иван застал их. И от души отметелил
и Сашку, и сестру, и
подвернувшуюся под руку Зинку, а потом послал всех куда подальше, конкретно
к едреней фене…
После больницы Саша и всё обитаемое пространство полуподвала вернулось к
статусу кво, то есть к тому, что было до того, к своим исконным началам.
Саша привыкал ходить без костылей. Старшая сестра Ивана пристрастилась к
папиросам,
золотой текиле и миниюбкам, свою часть дома приватизировала и сделала
евроремонт. Иван оформился в охрану комбината, ему выдали табельное оружие.
По субботам он приходил со смены в полуподвал и приносил детям
Зинки подарки. Старшая дочь уже пребывала в местах лишения свободы и
принудительно лечилась от дурных
болезней. Тетя Фира, видимо окончательно обидевшись на отсутствие внимания к
ней как к женщине со стороны мужской части полуподвального населения,
собрала свои вещи, и прямо из
больницы после операции по удалению раздробленных хрящей носоглоточной
полости подалась куда-то к дальним родственникам за пределы инфраструктуры
отходоперерабатывающего комбината №2. Зинка перемыла всё в доме, накричала
на детей, что они растут дармоедами, выбила из рук дочери вилку, которой та
целилась в глаз брату-идиоту, загнала к себе в комнату сына, развесившего
слюни перед телевизором, сбегала в магазин за вином. Ночью они с мужем
праздновали возвращение и отдавали предпочтение позе «лань на водопое». Саше
было хорошо ощущать, что он снова главный мужчина в доме. И он постарался
пилить свою жену, как дважды
врага народа. А утром за Зинкой заехала серая "Волга". И была пыльная
лесополоса. Потом Зинка горячим шепотом сказала время следующей встречи и
побежала домой переодеваться. Когда она вошла в свой полуподвал и открыла
дверь в ванную, увидела, как
средняя дочь сидит на корточках перед охранником Иваном, расстегнув ему
штаны, и держит в руках
наизготовку его длинный волосатый пенис. Они встретились с дочерью
взглядами. Зинке было некогда, надо было спешить на работу. Она
ничего не сказала, хлопнула дверью и умчалась. В центре пространства
полуподвала на продавленном диване
сидел перед телевизором сын-идиот
с застывшей на лице
блаженной, мокрой улыбкой, у
него изо рта текли слюни.
Он был счастлив.
*

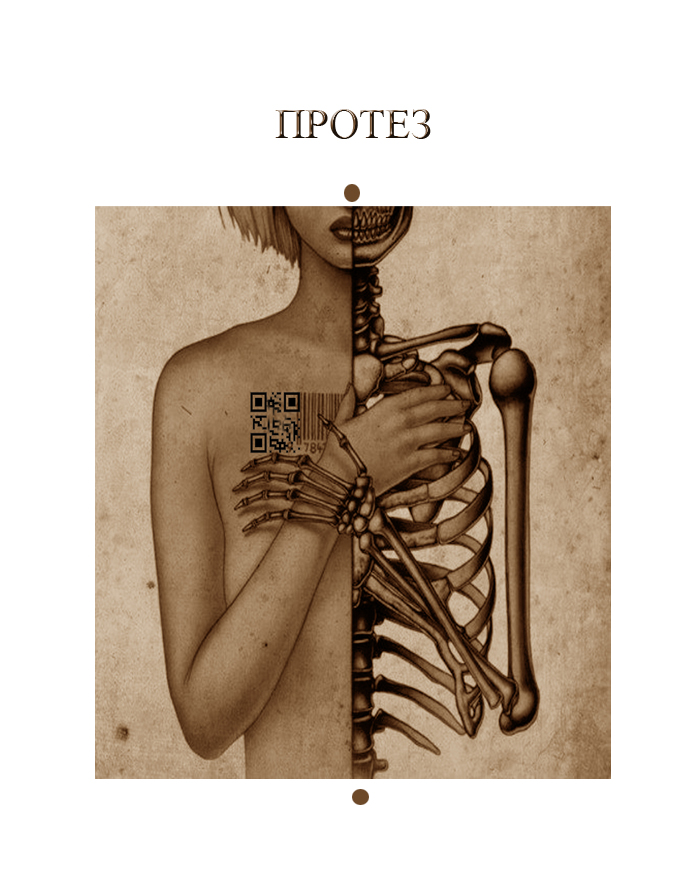
Третий день Алексей Палашин не выезжал из автопарка,
помогал механикам ремонтировать машину.
И все эти дни, пока рихтовали передок, крылья, меняли систему охлаждения,
лил дождь.
Не прекращался он и по ночам.
Настроение было хуже некуда.
Пыльные закопченные стекла гаража не пропускали дневной свет - постоянно
горели дампы, освещая унылые бетонные стены и разводы на потолке. Как
только Палашин переступал высокий металлический порог, ему уже хотелось
плюнуть на все, вернуться
домой и завалиться снова в постель. Он отбывал положенное время, механически
выполняя несложные действия, молча курил.
В тихий серый полдень Алексей окончательно потерял ощущение времени
и, привалившись в курилке спиной к стене, закрыл глаза. Рядом мужики
лениво обсуждали очередное поражение "Динамо",
делились мнениями о способностях
отечественной денежной единицы противостоять в сравнении со свободно
конвертируемой валютой. Едва слышно постукивал но крыше дождь. Издалека
временами доносились звуки музыки. День истекал незаметно.
Подняв воротник плаща, Алексей направился к остановке троллейбуса. Даже
подвезти сегодня было некому - такой задался день. Рядом с остановкой
толпились мокрые шумные студенты - напротив располагался какой-то институт,
или техникум, а может быть и училище. Студенты шутили, смеялись, хлопали
друг друга по плечам. Особенно заразительно смеялась высокая девушка со
странными пепельными волосами. "Ишь ты! - хмыкнул Алексей, разглядывая
красивое лицо девушки. - Седая. И губы намазаны!" Девушка резко взмахнула
волосами, эффектно крутнув головой, несколько капелек попали на лицо
Палашину. Студентка звонко рассмеялась, широко раскрывая алый рот, сверкая
счастливыми глазами. "По этим бы тебя губам!",- подумал Алексей. Подъехал
троллейбус, с шипением распахнулись двери, проглотили ожидающих. Внутри было
душно, тесно, стекла запотели. Над самой головой Палашина водитель через
динамик грозил на следующей остановке не открывать заднюю дверь и проверять
билеты. На что студенты хором ответили: "Про-езд-ной!" И опять громче всех и ярче зазвучал смех седоволосой девушки.
"И чего бы это я заливался!? -
недоумевал Алексей. - Выдра седая!"
Потом он видел, сквозь мутное стекло, как она шла по тротуару и, продолжая
смеяться, махала маленький ладошкой оставшимся в троллейбусе товарищам. На
какое-то мгновение Алексею показалось, что она прощается с ним, и подумал,
что хорошо бы было встретиться с нею еще раз. Он подмигнул ей едва заметно.
Девушка раскрыла над собой чудной прозрачный крутобокий зонтик и в нем, как
в аквариуме, растворилась в мокром пространстве. На этот раз Палашин не
успел ни о чем подумать, его толкнули, и он должен был прижаться к спинке
сидения вместе с чьей-то сумкой, выслушать порцию раздраженных упреков в
свой адрес.
На
"Лесной" как обычно он вышел и пошагал по мокрому корявому тротуару, который
в полусотне метров от остановки переходил в широкую тропинку и, петляя
между глубокими лужами, выводил к приземистым улочкам частных домов -
Кротова и Обводной. В конце улицы Обводной и стоял дом Алексея.
Вернее, дом был его жены, а ей он достался по наследству от первого мужа.
Звали жену Валентиной.
Дома ее не было. Эту неделю она работала во вторую смену.
Радостно тявкнул два раза Беркут, приветствуя хозяина, выскакивая на скрип
калитки из будки. Не удостоенный вниманием, верный пес остановился, проводил
хозяина взглядом, повилял некоторое время хвостом, и вернулся в свое жилище.
Свернулся в будке клубком, настороженно поводя ушами.
Беркут думал о чем-то своем и моргал изредка, когда рядом падала крупная
капля.
Алексей снял плащ, начал было разуваться и тут вновь услышал
предупредительный лай собаки и скрип калитки, В окно кухни увидел входящую
во двор Клавдию - местного почтальона; женщину энергичную и плотную. Она
была закутана в хрустящий целлофан и
крепко прижимала свою объемную сумку к тугому бедру.
"Чего это она?" - мелькнуло в голове Палашина.
- Хозяева, есть кто дома? - послышался приглушенный голос Клавдии.
Алексей пошел открывать дверь,
- Здравствуйте, Алексей Федорович, - словно испугавшись его вида, перешла
Клавдия на полушепот и отступила на шаг.
- А ну, пошел вон! - гыкнул Алексей на
Беркута.
Тот и сам узнал почтальоншу, пусть она и в
шелестящем смешном плаще, но для порядка-то полагается и полаять, как
же иначе-то? У каждого свои
обязанности. И нечего повышать голос...
- Ты проходи, Клавдия. Здравствуй! - поежился Палашин и распахнул дверь
пошире.
- Да нет, я побегу, - опустила глаза Клавдия и протянула заранее
приготовленный листок. - Тут телеграмма вам, Алексей Федорович. Срочная...
По тому, как она это сказала, как опустила глаза и как перешла со своего
обычного командного крика на шепот, и потому что не стала она, как всегда,
шутить, Алексей определил, что новости будут худые. "Мать?!" - вспыхнуло в
мозгу тут же.
Он расписался карандашом на подставленной бумаге, взял телеграмму.
- До свидания, Алексей Федорович. Побегу, - попятилась Клавдия и добавила
совсем некстати. - Столько сегодня дел,.
- Ну, - успел проговорить Палашин, и калитка за Клавдией уже закрылась.
Если бы сейчас кто-то проходил по улице мимо дома Палашиных, то очень
бы удивился, увидев, как выскочившая Клавдия остановилась, придавилась спиной к воротам и не дышит.
Ох, как она всегда переживала, когда ей приходилось носить
подобные весточки, как она этого не любила. Старалась как можно
скорее исполнить долг и убежать. Вот и теперь Клавдия стояла,
затаив дыхание, слышала, как тихо и жалобно закрылась за Алексеем дверь,
слышала повисшую тягостную тишину. Постояв так несколько минут, Клавдия,
словно спохватившись, бегом побежала на почту. Брызги летели из-под ее
резиновых сапог и темными разводами оседали на прозрачных полах плаща.
Других экстренных дел у почтальона не было, это сегодня была единственная на
отделении телеграмма, и она была доставлена в срок: "СРОЧНО ПРИЕЗЖАЙ МАТЬ
УМРЛА НИКОЛАЙ"
Алексей несколько раз пробежал глазами по единственной строчке телеграммы и
положил ее на стол. Брат Николай в спешке нацарапал умрла или это
почтовые работники так поднапартачили? Краешек бланка был мокрым.
"Да, дождь, значит", -
подумалось Алексею, и он опять поежился.
"Денек, бенть!.."
Брат Николай встретил Алексея пьяный, злой, насупленный, почерневший. Худо у
него было дома, худо с женой складывалась жизнь, а тут еще мать. Он молча
обнял вошедшего брата, похлопал ручищей по спине и молча шагнул в сторону.
Алексей постоял минуту, помялся, затем прошел в горницу. Горит свеча. Чужие
и размытые полузнакомые лица поднялись навстречу. Ясно было,
что в гробу, в цветах на столе - вокруг которого и собрались все
присутствующие, - мать. Ничего не видя перед собой, Алексей сделал несколько
шагов, положил свои цветы поверх других, подвядших.
Она лежала в гробу маленькая и сухонькая. Чистенький беленький платочек
обрамлял заботливо вымытые морщинки неподвижного лица. Неживые руки,
сложенные на груди, криво держали свечку, воск стекал по пальцам. Взгляд
Алексея постоянно, помимо желания, возвращался к этому незнакомому лицу с
глубокими плоскими впадинами закрытых тонких век. Трудно было понять и
поверить, что это лежит всегда
живая, бойкая, веселая работящая мама.
Алексей, не думая ни о чем, постоял несколько минут возле гроба, склонил
голову к телу, коснулся губами лба. В сознании осталось только то, что
постоянно и неотступно преследовали его внимательные настороженные взгляды
родни: то ли он сделает, правильно ли
шагнет, так-то посмотрит. Это тяготило. Но и об этом не думал Алексей,
поглощенный тягучей посторонней
приставшей с самого утра гнетущей болью, - ноги подкашивались, словно рельсу
положил кто-то невидимый на плечи. Он передвигался по дому, даже делал
что-то, сидел вместе со всеми, потом помогал брату и жене его, платил
кому-то какие-то деньги. Время соскальзывало
и, не задерживаясь в сознании, исчезало. И сердце сделалось тяжелым
гулким, будто механический протез.
Бойкая старушонка, соседка, успела рассказать Алексею подробности, описала
все случившееся в точности - как, когда, что за чем. Не забыла отметить, что
именно благодаря ей все сделано
и устроено правильно, не хуже чем у людей. И телеграммы разослали и
обмыли и обрядили и холодца наварили. А как же иначе – все должно быть
по-человечески…
Алексей только качал согласно головой, мало что понимая и все принимая как
должное. Старушка рассказывала все это уже не в первый раз, она
знала, что каждое ее
слово будет выслушано со вниманием и потому не торопилась, часто сбивалась и
повторяла «отмаялась одно слово, сердешная».
Голоса вокруг становились более резкими, настойчивыми, потом все стало
расплываться, таять, скоро оказалось, что в избе никого не осталось, только
свои. Николай уронил голову на руки, притих в углу. Ветхая старушка, соседка
сидела у гроба и смотрела неотрывно на тоненькую свечу, которая, казалось,
шевелилась вместе с желтым язычком пламени, на подвижные струйки воска,
стекавшие по корявым пальцам покойницы. Изредка старушка разгибалась
и собирала теплые застывшие восковые ручейки, мяла
их проворными пальцами и складывала на тарелочку. Едва различимо
потрескивало пламя свечи. Тишина была такая, что не хотелось дышать.
Вдруг Николай качнул головой, словно уронил ее, выругался,
встал, скрипнув стулом. Упал,
не разбился, граненый стакан,
жалобно звякнул, гранями прокатился по полу. Николай его перешагнул и вышел.
Долго шарил в сенках, гремел инструментом, разговаривал сам с собой. Потом
хлопнула и наружная дверь. Плеснула на дворе вода.
Веки Алексея слипались, голова гудела, тяжелая и чужая, хотелось курить.
Алексей медленно встал и на цыпочках вышел на крыльцо. С удовольствием
вдохнул прохладный вечерний воздух. Ощупал свои карманы,
сигарет не нашел. С соседней улицы
доносилась веселая танцевальная музыка. Неожиданно вспомнилась юность. То
есть один единственный
случай, когда он подрался на
танцевальной площадке из-за девушки, когда пришел домой с синяками и в
порванной рубахе. Мама ничего не сказала тогда, только заплакала. Отца уже
не было. Почему-то тогда нужно было обязательно
драться на танцплощадке.
Алексей мотнул в темноте головой, отгоняя от себя воспоминанья. Не хотелось
думать, ни о чем, а в голову почему-то лезли глупости,
- Коль.
Слышь, Коль, - хрипло позвал он, но никто не отозвался.
Подождав еще немного, Алексей вернулся в дом.
Николай стоял спиной к нему у гроба матери и странно
дергал плечами.
-Ты чего, Коль? - тихо спросил Алексей
и, обойдя стол, увидел,
что брат пальцами разжал челюсти
матери и лезет в рот плоскогубцами.
- Ты чего?! - уже вскричал Палашин, пораженный увиденной картиной
показавшейся чудовищной, кощунственной, страшной. Рука сама по себе
пролетела над гробом - Алексей неожиданно сильно ударил брата кулаком в
лицо. Он не понимал, что происходит, но инстинктивно
защищался от недоброго, загораживал мать.
Он увидел, что Николай делает что-то такое, чего не надо было бы делать.
И он
ударил. Николай грузно упал к двери, звякнули плоскогубцы о
стол.
Покойница осталась лежать с нелепо разинутым ртом и сбитым набок платочком.
Алексей стоял с нелепо растопыренными руками,
не зная что делать дальше. Все происходило словно не с ним, а с
кем-то другим, посторонним и незнакомым. Он не чувствовал ничего, только
видел себя со стороны, будто в кино. Взгляд его останавливался то на
искаженном лице матери, то на испуганно прижимавшей руки к груди, затихшей в
страхе, старушке, то на портрете отца, то на колышущемся пламени свечки.
Николай молча сел на пол, уперся спиной в косяк, провел ладонью по лицу,
плюнул кровавым сгустком.
- Ну, - услышал он голос Алексея. - Ты чего это, сволочь, удумал?
- А ей они на кой хрен теперь? - вяло ответил вопросом Николай.
- Кто они?-
не понял Алексей. Он так и стоял, не в силах двинуться с места,
переговаривались через гроб. Николай молчал, глотая горькую слюну.
- Ну! - скрипнула половица под Алексеем.
- Кто?! Зубы, ясно, - тихо
проговорил Николай и шумно выдохнул.
Алексей помолчал, соображая.
-
Тебе-то они к
чему? - спросил затем.
- Дак золотые ж, - обронил брат.
-
А-а.
Алексей взглянул на старушку у стены. Та опустила глаза.
Может быть и действительно глупо хоронить зубы-то? Сколь ни есть
там золота, а всё
- добро. Не пропадать же ему, если рассудить по-человечески, - пытался
размышлять Алексей. Чего ими теперь нажуешь? А так Николай дочке хоть
колечко, хоть серёжки справит.
Все
будет о покойнице
память... Царствие ей небесное…
Алексей подождал немного, мотнул головой и шагнул к двери. Старушка так
и не подняла голову,
будто уснула.
Утром мать схоронили. Помянули, как водится, выпили за
упокой души, помолчали.
Через три дня в пасмурный ветреный вечер Алексей возвращался домой с работы.
Машинально обходил непросохшие лужи, сутулился, прячась в воротник от
пронизывающего ветра. На остановке
толпилась группа молодежи с портфелями и сумками. Они толкались
в троллейбусе, шумели, старались перекричать гремевшее над головами
радиообъявление о том, что выход будет только через переднюю дверь с
предъявлением билетов. На следующей остановке новая
волна пассажиров прижала Алексея к спинке сидения. Он хотел локтем
оттолкнуть соседа, скосил глаза и тут увидел, что это была
девушка в прозрачном плаще, высокая, звонкоголосая, яркая. Он
сразу узнал в ней ту недавнюю, седоволосую, что шла под
крутобоким прозрачным зонтиком - как в аквариуме. Только теперь волосы
у нее были ярко-желтого цвета. Что тоже очень шло к ее длинной
шее и светлым огромным глазам, которые сегодня были грустными.
Девушка, видимо, почувствовала недовольное движение соседа и, перехватив его взгляд, сказала тихо:
- Если я вам мешаю, извините пожалуйста, - она попыталась
вежливо улыбнуться.
Ее лицо было совсем рядом и Алексей, глядя на яркие шевелящиеся губы,
заметил, что в верхнем ряду, в
самом уголке рта среди белых и ровных зубов блеснул один
золотой.
Алексей не ответил на улыбку девушки и не расслышал
ее
извинения, все окружающее уплыло куда-то, исчезло.
И не кричал
уже водитель через динамик, никто не толкался, никто не просил
передать талон на компостер, и за
окнами погасла, остановилась
улица, перестали мелькать люди, деревья.
В первый раз за много лет Алексей Палашин проехал свою
остановку...
*


Он знал эти места также
хорошо, как и свое оперение.
Он мог точно указать где,
под каким камнем, возле какого куста таится сейчас добыча.
Он был полным хозяином этих
мест, владыкою единодержавным, и плавно кружил, над ущельем не столько
высматривая очередную жертву, сколько получая удовольствие от полета.
Солнце пригревало склоны
гор, и теплый воздух устремлялся вверх.
Широкие крылья ловили тугие
струи восходящих потоков, и было замечательно легко и привольно без единого
усилия кружить, кружить, кружить поднимаясь выше и выше.
Размеренное движение
хозяина ущелья в подоблачной выси было на виду всех жителей долины.
Час, два, три летал так
вдали от суеты земной огромный орел.
И постепенно обитатели
ущелья переставали опасливо выглядывать из своих укрытий, переставали
бояться смертельной опасности нависших широких крыльев, начинали беспечно
копошиться на солнышке, добывать пропитание, обучать потомство, резвиться.
Когда у
орла в гнезде рос орленок, память о нем, забота о его будущем постоянно жила
в зорком взгляде птицы. Всего несколько секунд требовалось, чтобы, сложив
крылья, камнем пасть в долину и вонзить когти в толстую спину зазевавшегося
сурка. Жирная еда достанется орленку, крепче будут его крылья,
острее станут когти и беспощаднее сердце.
Орел не слышал истошного писка бьющейся в его лапах жертвы, он подхватывал
свою добычу и живо относил в гнездо - к неописуемой радости орленка. Живая
добыча - вкусная еда, полезная еда. Правда, орленок еще слишком мал, слаб,
чтобы рвать прочную шкурку и самостоятельно добираться до клокочущего сердца
- главной награды победителю. Но он с удовольствием вонзал когти свои в
дрожащее тело перепуганного насмерть сурка и исторгал при этом победные
звуки. Он учился быть самим собой. Орел выжидал некоторое время, давая сыну
вволю потешиться, почувствовать мощь своих крепнущих лап и остроту клюва,
потом спокойно принимался разделывать тушу, начиная, как надлежало, с брюха,
с потрохов, печени - и давал лучшие куски орленку, жадно впитывавшему не
только горячие кровавые соки поверженного животного, но и правила Настоящего
Орла - как он должен держать свою добычу, как резать, как рвать жилы и
плойки внутренностей, ведь этим
придется заниматься всю жизнь и надо быть достойным продолжателем племени.
Распотрошив сурка и покормив сына, орел оставлял ему для забавы шкурку, а
сам вновь расправлял крылья. И
лишь единожды взмахнув ими точно попадал на нужную воздушную струю и уже на
ней размеренно круг за кругом снова взмывал ввысь, туда, где не рисковала
летать никакая другая птица.
Царь гор, хозяин долины выходил в свои владения.
Не в пример другим царям орлы никогда не враждуют, никогда не дерутся,
никогда не спорят из-за территорий или того пуще из-за обладания самкой.
Достаточно всего лишь одного единственного взгляда, с огромного расстояния,
чтобы орлы оценили силы друг друга и разлетелись в разные стороны. Всегда
тот, что слабее отдаст должное уважение более сильному. И даже если силы
равны, то стоит ли враждовать из-за владений - гор и ущелий на всех хватит.
Лети, орел, находи свободное от крылатого владыки место - и оно твое.
И уже никто другой на него никогда не позарится. Высшая справедливость
сильных - мир.
Полны достоинства встречи двух
орлов. Величавые и спокойные они могут парить в поднебесье, словно бы не
замечая друг друга, но и не выпуская из виду. А когда приходит пора,
являются орлицы с туманным взглядом и нежным, светлым оперением. Орлу
достаточно чуть качнуть крылами над избранницею - и она послушно летит за
ним в приготовленное гнездо.
И никто уже не оспорит выбор.
Дом орла - это величественное сооружение, которое он строит всю свою жизнь.
Став на крыло, овладев ущельем или даже одинокой скалой, орел уже на второй
год жизни начинает строительство дома для будущего потомства. Огромные ветви
деревьев приносит он с берегов речушки, складывает их на уступе утеса или в
расщелине на вершине скалы. Складывает так, что ветви сцепляются между
собой, переплетается, образуя прочное широкое и удобное гнездо, достаточно
глубокое, чтобы укрыть новорожденного от посторонних взглядов и
пронизывающих ветров.
У орла
бывает только одно гнездо, не то, в котором он родился, - то он оставляет
навсегда и никогда более не видит его, - но то, которое построил сам. Каждый
год он добавляет несколько веток, подправляет, подновляет строение. Вот
почему встречаются иногда гнезда огромные, массивные, нижняя часть которых
срастается с камнем, цементируется многолетними испражнениями и занесенной
ветрами пылью.
Именно в своем, построенном надежно и прочно гнезде, орел становится отцом.
Он позволяет самке принять короткие, но бурные свои ласки, снести яйцо и
высидеть его. Но как только из яйца вылупляется птенец, орел прощается с
орлицей и выкармливает орленка
caм,
сам прикрывает его широким крылом от внезапных снегопадов, сам следит за
тем, чтобы птенец никогда не испытал чувства голода. Голод унижает. Орел не
должен знать, что это такое. Захотев есть, он выходит в свои владения и
добывает себе еду. Не было никогда среди орлов обжор, но и таких, кто не мог
бы прокормить себя и своего птенца среди орлов не встречалось.
Когда орленку приходит время, он без сожаления улетает из гнезда. Он никогда
не учится летать - его первый полет, это уже полет
opлa
- и внизу точно также под тенью его крыл прячутся, замирают бросаются наутек
животные и птицы, как если бы это бил сам владыка. Так летит только орел -
бесшумно, мощно, неотвратимо.
Многих птенцов выпускает из гнезда орел за свою жизнь. И их сила, их
окрыленность - это гарантия и его - Орла - бессмертия, потому что он
продолжается в них, хотя и никогда более никого из них не встретит в жизни.
Он выкормил их кровавой пищей, он поднял их на крыло, они станут орлами и
сделают то же, и будут новые гнезда, новые птенцы, новые поколения. Цепочка
не прервется.
Орел не умирает даже когда исчерпывает запас отпущенных ему судьбою лет. И
никто никогда не видел, как дрожат ослабевшие крылья старого орла, никто
никогда не выскользнул из затупленных старостью когтей орлиных. Орлы не
знают немощи.
Случается однажды в жизни каждому орлу услышать своим сердцем зов. Это
происходит в полдень. Орел взлетает над своими владениями и закладывает
широкий круг, планируя и отпечатывая тень свою на знакомых до мельчайших
подробностей скалах. Затем он, сужая круги, по спирали поднимается выше и
выше, летит вертикально вверх, так, что если смотреть с земли, может
казаться, что он просто растворяется в небе, сливается с солнечными лучами.
И этот полет его бесконечен. Орел никогда не возвращается из своего
последнего полета.
И единственным послаблением некоторым бывает облачная погода, которая может
облегчить подъем, может поддержать, прикрыть, заслонить восхождение.
Но настоящий Орел летит в зенит, летит прямо к солнцу, летит и достигает
его.
Вот почему никто и никогда не видел и не мог видеть умершего орла.
Орлы не умирают, орлы улетают
навсегда.
А на их место прилетают новые,
молодые...
*

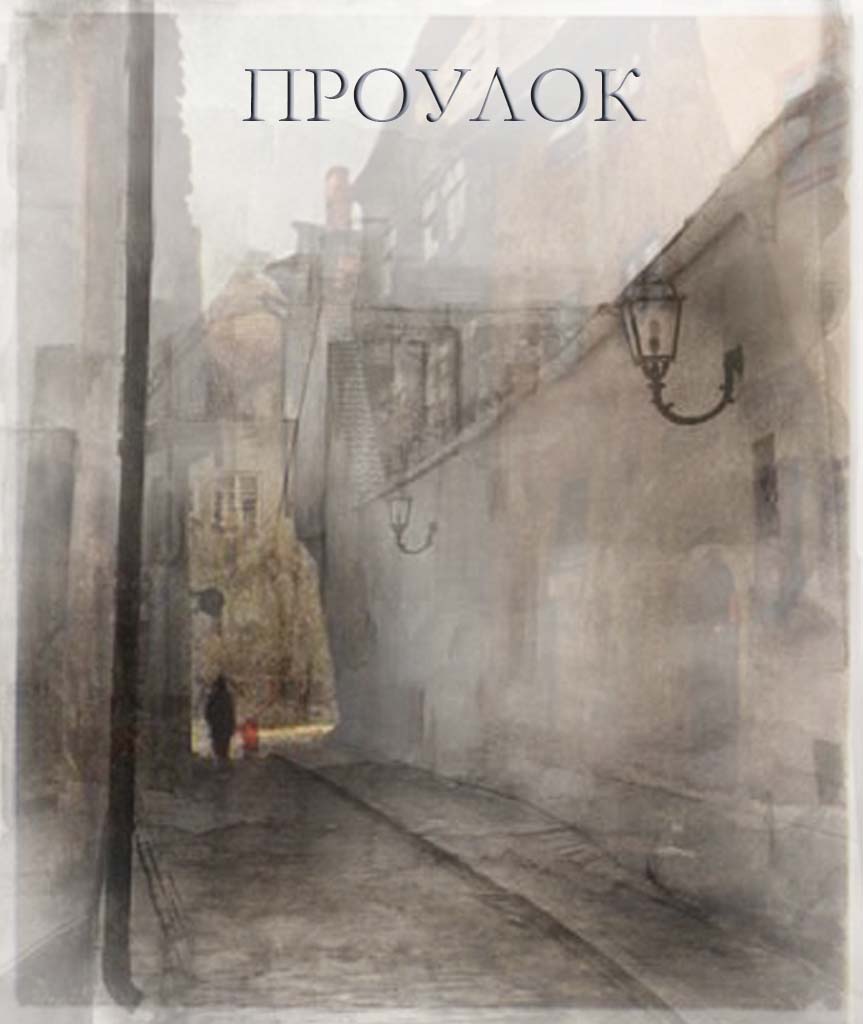
На этом углу переулка мама поцеловала
свою дочь и сказала:
"Ну, теперь ты большая, иди дальше сама".
И Оля пошла. В белом передничке, с бантиком и букетом цветов.
Перед тем, как войти в школу, она оглянулась еще раз на маму
и помахала ей букетом. Мама молодая и красивая, стояла и улыбалась, глаза ее
светились большие и влажные, в руке она держала два больших оранжевых листа
каштана.
В Олином проулке росли большие-большие каштаны вперемешку с
липами.
И осенью, особенно после дождя, в уютном старом проулке пахло
лесом.
Рядом с деревьями всегда стояли эти большие серые дома с
массивными парадными подъездами и урнами в виде каменных цветков. У Олиного
дома не было такой урны. Дом располагался во дворе, тесно примыкая ко
второму такому же, выкрашенному в грязно-розовый цвет, с балконами увитыми
диким виноградом и цветами. Дом в пять этажей. Дверца лифта оглушительно
хлопала, и металлическая сетка шахты долго не смолкала, звенела после
каждого удара, разнося колебания снизу до самого верха. В подъезде всегда
пахло одинаково - кошками и мусоропроводом. И даже, когда делали ремонт и
перекрашивали стены в темно-синий цвет, проводя голубую полоску параллельно
ступенькам, этот запах, вытесняя резкий дух масляной краски, оставался на
каждом пролете, на каждой лестничной площадке. У всех дверей по несколько
кнопок, рядом на бумажках написаны фамилии жильцов. На четвертом этаже слева
дверь с металлическим номерком 32. Около этой двери серая кнопка звонка с
маленькой припиской - Олиной фамилией и сообщением, что звонить надо три
раза.
В этом парадном Оля впервые поцеловалась с мальчишкой.
Приспособили для этого самый верх лестницы, где начинался чердак, - там
курили, там целовались, когда было холодно, когда шел дождь, там Оля
научилась делать то, о чем просил Игорь, ее парень,
ее первый мужчина, он стал известным спортсменом. И переехал в новый дом,
престижный, тут же в центре. Приводила сюда на лестницу Оля многих знакомых.
Всех, кто провожал ее. И с любопытством наблюдала за поведением: один
пожилой мужчина, страшно стеснялся своей лысины и поминутно смотрел на часы.
Оля тогда училась в институте, а он руководил студенческим театральным
коллективом, где она занималась заодно с подружкой. Как-то недавно Оля
встретила его в филармонии на концерте.
С трудом узнала. А он сделал вид, что не заметил. А может быть и в самом
деле не видел, так как был слишком занят своей спутницей, наверное, дочерью.
В институт Оля ездила на автобусе. А
после окончания института пошла работать в организацию, расположенную
в десяти минутах ходьбы от ее дома. До конца по переулку
вниз и направо - новое высотное
здание статистического управления, шестой этаж.
Так и жила - дом, работа и обратно.
Изредка Ирка вытаскивала куда-нибудь проветриться, на концерт или в кино.
Приходила весна и знакомые деревья начинали дышать, веточки становились
темными и влажными, набухали почки. На душе делалось так тоскливо, что
хотелось плакать.
Оля брала за свой счет или неделю в счет отпуска и уезжала в Коктебель, к
тете Дусе. Тетя Дуся, давняя мамина знакомая, всегда в поздравительных
открытках приглашала к себе. Оля посещала ее почти каждый год. Она очень
любила Планерское взгорье весной, когда там еще нет толп отдыхавших, когда
цветет миндаль и на склонах древнего вулкана Кара-Дага распускаются
маленькие голубенькие цветочки, названия которых никто не знает. Правда, в
последние годы, когда мама стала болеть, Оля никуда не выезжала. Постоянно
находилась при ней. На работу уходила после бессонной ночи, в обеденный
перерыв звонила, спрашивала у соседей как там дела, и сразу же с работы шла
домой, заходя по пути в булочную и в угловой гастроном.
На протяжении двух лет страх как-то притупился, стал привычным, перестал
быть собственно страхом - а просто, как в аэропорту, когда самолета все нет
и нет, когда ожидание бессмысленно затягивается, вместо напряжения
образовалась усталость и тихая гибельная смиренность: что будет, то и будет.
Как-то само собой все и получилось, устроилось все аккуратно и нормально.
Помогли соседи, приехал двоюродный брат мамы из какого-то маленького города,
со смешным фруктовым названием Изюм.
Оля видела дядю второй раз в жизни. Он очень много говорил, обнимал Олю за
плечи и говорил, говорил непрестанно обо всем. О квартире, о том, что жизнь
не кончается, о том, что надо думать о будущем, о том, что ее никто не
оставит, всегда помогут. Олю все утешали. Она кивала и смотрела на маму,
которая стала маленькой и светлой. Почему-то запомнилось из всего, что в тот
день шел дождь, все вымокли и страшно хрустел целлофан, который зачем-то
держали над могилой. У всех были мокрые лица и казалось, что все обливаются
слезами. Шел дождь.
И когда гроб выносили из автобуса, кто-то из мужчин оступился, мама
качнулась, послышался чей-то вскрик и сделалось страшно - показалось, что
это мамин голос.
Мама умерла через месяц после того, как выписали ордер на новую квартиру.
Дом в переулке шел под дорогой капитальный ремонт, и всех жильцов переселяли
в отдельные квартиры в новые дома в разных районах. Кирсановы выехали
первыми. В коридоре не стало двух ящиков, но по привычке, подходя к
телефону, все обходили пустое место - светлое прямоугольное пятно на полу.
Часто в разговорах упоминалась фамилия Барковичей, успевших поменяться с
некой глуховатой женщиной, которая постоянно сидела в своей комнате, вещей
не распаковывала и курила. Она развелась с мужем после восьми лет совместной
жизни. И теперь получала отдельную изолированную квартиру на девятом этаже
со всеми удобствами. По соседству с Олиной новой квартирой.
Оля побывала в своем новом доме, села на замазанный белилами сломанный стул
и просидела целый час неподвижно. Дом стоял на пустыре. К нему через этот
пустырь среди труб и рвов, плит и ям надо было минут двадцать добираться от
остановки автобуса. Вдоль дороги стояли тоненькие, как тростиночки, деревца.
Два из них были сломаны заезжавшими грузовиками. Самосвалы возили черную
землю, бульдозеры разравнивали ее, все гудело и грохотало. А рядом полыхали
огни сварки и урчали башенные краны - возводился еще один очередной, точно
такой же семнадцатиэтажный белый дом.
В новую квартиру Оля переехала около трех лет назад.
Работает она там же. Ирка теперь стала Ириной Николаевной, начальницей, а
Оля - ответственной за работу общества "Знание".
Ехать до работы от нового дома час и десять минут. Говорят, что в обозримом
будущем начнут прокладывать туда линию метро. И тогда будет всего полчасика.
После работы Оля всегда проходит по своему проулку. Проходит и
останавливается у арки, в которую заходила на протяжении двадцати шести лет.
Останавливается и смотрит на новый девятиэтажный дом, отделанный белой
плиткой с красивым подъездом, парковкой для
машин и охраной на том месте, где была беседка. Смотрит и о чем-то думает.
Пожилые женщины с хозяйственными сумками, проходя мимо, здороваются с ней,
она кивает им в ответ. Потом медленно идет дальше по проулку и сворачивает
направо, мимо школы вниз, к остановке автобуса. Старые липы шелестят над нею
листвой, и из школы доносится пронзительный звонок - на переменку у второй
смены.
Этим летом Олю не было видно. Она уезжала на море с Ириной Николаевной и ее
новым мужем, кинооператором. Он в районе Судака снимал фильм и устроил их
обеих очень выгодно, за счет киногруппы. Познакомили Олю с Котовым. Но из
этого знакомства ничего не получилось. Потом был второй режиссер Турьян,
застенчивый и тихий алкоголик.
В конце августа Оля появилась загорелая, помолодевшая, в светлой юбке.
Дни стояли пасмурные, каштаны начинали желтеть, небо висело тяжелым и
совершенно серым.
Как всегда Оля остановилась у арки.
Она увидела, как из красивого стеклянного подъезда нового девятиэтажного
дома вышла молодая женщина с девочкой. На голове у девочки порхал
прозрачными крыльями огромный белый бант, счастливое личико было
торжественно и светилось радостью. Тяжелый букет был составлен из белых и
красных гладиолусов.
Мама за руку довела девочку до угла, поправила бант, наклонилась к ней,
поцеловала и что-то сказала.
Девочка побежала к школе. У самого входа она остановилась и помахала маме
букетом.
Глаза у мамы были большими и влажными...
*


Была весна.
Я медленно
шел по сухой дорожке парка и с
удовольствием наступал то на тень от деревьев, то на солнечные горячие
полосы и пятна.
Пели птицы.
И уединенность моя под их
аккомпанемент была приятной.
Необременительной.
Я остановился,
прислушиваясь к затейливым птичьим трелям.
Сзади послышались едва
слышные шаги. Они приближались.
Становились более отчетливыми. Слышно было как похрустывает
под подошвами гравий на парковой
дорожке. Хотелось оглянуться. Посмотреть, кто нагоняет меня. Шаги были
торопливыми и решительными. Но я усилием воли заставил себя подождать, пока
они обгонят меня. К шагам примешивался постоянный шорох. Я никак не мог
понять, что бы это могло быть.
Мальчишка, случайно
забредший сюда в уединенную часть парка?
Сухонькая пожилая женщина,
старая учительница с черной затертой сумочкой? У нее должна быть на голове
старомодная шляпка.
Или сумрачный субъект с
недобрыми намереньями в темных
очках, шляпе и с поднятым воротником вынашивает
свое злодеяние…
А может быть это девушка.
Одинокая и красивая, которой просто грустно. Девушка с идеальным профилем –
как на персидских миниатюрах. Она любит читать книги, уединение и верит в
доброту мужчин с синими глазами. Любимое занятие – читать гороскопы. И вот
в последнем из опубликованных она нашла свидетельства того, что
непременно случится у нее в судьбе крутой поворот и она на аллее парка
встретит того, о ком в тайне мечтала всю свою жизнь. Я послан ей судьбой. Я
такой же одинокий и грустный. С таким же идеальным профилем. Через стекла
очков можно рассмотреть, что хоть и не синие у меня глаза – просто серые –
но в них нет ни злости, ни коварства, ни пошлости.
Мы бы шли с ней рядом, шаг
в шаг. По сухой тропинке. И наступали бы вместе поочередно на
тени от деревьев и на светлые полосы. Она смеялась бы, рассказывая,
как ей страшно было обгонять меня, незнакомого, угрюмого, широкоплечего. Как
она представляла себе страшилище, бросающееся ей на спину, хватающее
холодными жесткими пальцами за шею. В руках у нее была бы веточка с
налившимися почками, пахнущая весной так щемящее тонко. И наши ноги
одновременно бы остановились на солнечной полоске.
А может быть это вовсе не
девушка? Шаги все ближе. Это грустный недопивший свое поэт находящийся в
творческом кризисе. Он догоняет меня с единственной корыстной целью найти
метафору и попросить закурить. А когда я отвечу, что не курю и потому
не могу ничем его порадовать, он выхватит из-под полы куцего пальто огромный
нож и замахнется коварно. Вот сейчас я остановлюсь и острая боль под ребрами
пронзит мой организм. Я упаду от болевого шока и
значительной потери крови. Погаснет солнце. Через несколько дней
кто-то наткнется на нелепо лежащее поперек тропинки тело и
истошно заорет: «Помогите!» Но помочь никто не сможет. Соберется
толпа. Старая учительница в антикварной шляпке зарыдает, зальется настоящими
слезами. Неведомо откуда возьмется милицейская машина, а за ней и
бестактная сирена-мигалка скорой помощи объявится.
Я все же справился с
рецидивами творческого кризиса и не обернулся.
Мимо меня деловито
прошагала серая с черной спиной восточно-европейская овчарка, поминутно
принюхивающаяся к следам на тропинке. Она даже не взглянула на меня. Я ей
был неинтересен.
А за поводок держалась
девочка. В красном берете, лихо заломленном на затылок. Обгоняя меня,
девочка мельком взглянула мне прямо в глаза.
Я остановился.
Девочка с собакой по
весенней тропинке, минуя полосы
тени и света, удалялась стремительно, пока окончательно не скрылась за
поворотом.
Я стоял и не мог
пошевелиться. Этого не могло быть. Я
сразу узнал ее идеальный профиль как
на персидских миниатюрах. . Это была она. Та, которую я только что придумал.
Не доставало лишь веточки с налившимися почками…
Опьяняюще пахло весной.
*


Как все новенькие он был очень хорош собой: торжественный безупречный наряд,
нервическая бледность, праздничность во взгляде. Правда, мне показалась не
совсем уместной эдакая подчеркнутая его серьезность даже строгость. И
еще слишком вызывающе сияли
стерильной чистотой белоснежные
перчатки. Но так как я и сам волновался, стараясь переполняющую меня радость
не выказать, спрятать ее поглубже, мне нетрудно было понять сложность
момента для новичка. Приветствовал я его сдержанно, чтобы не вызвать лишнего
волнения:
– Добро пожаловать в наши
края!
И легкий поклон головы.
Мой голос прозвучал все же слишком неожиданно для
новенького, кажется, даже напугал его. Широко раскрытые глаза были
обращены ко мне с мольбой и недоумением. По всему было видно, он
не понимал, что перед ним был я и что это я обращаюсь с приветствием.
Новенький долго смотрел на
меня, но не в глаза, а куда-то выше, как бы на макушку. Признаться этот
взгляд меня смущал. Я решил выйти из затянувшейся паузы шуткой:
– Надолго к нам? – спросил
с усмешкой.
Вместо ожидаемой и естественной
в таком случае ответной улыбки, на лице его образовалась кислая гримаса,
взгляд еще более затуманился. Нелегко дается переход к нам. Мне было неловко
долго смотреть на недоумевающего новенького, на его дрожащие губы.
Я отвернулся.
В комнате, как и положено, толпился народ. Приглушенно звучали голоса,
шарканье ног сливалось в непрерывный гул. Женщины плакали или, точнее, терли
платками глаза, собравшись вокруг вдовы и с любопытством поглядывая между
делом по сторонам. Мрачно было от обилия
черных одеяний и тоскливых лиц собравшихся. Все сидели, стояли или
бесцельно двигались, не зная, что предпринять, а может быть, по-настоящему
скорбели, ждали чьей-то команды, чьего-то указания.
Присутствующим, особенно тем, кто приходил с опозданием, хотелось послушать
рыдания вдовы. Все смотрели на нее с ожиданием и надеждой. Но рыданий не
было слышно. Вдова сидела отрешенная, уронив руки, глядя прямо перед собой
на большую белую ладонь мужа.
Я не был в родстве ни с кем из присутствующих, сослуживцев, знакомых или
соседей. Но я был сейчас ближе всех к виновнику торжественного собрания
малознакомых между собой людей и имел на это право. Я знал, что видит меня
только он теперь, хотя и смотрит куда-то сквозь меня, и никак не может
сосредоточиться. Он сидел в неудобной позе, свесив одну ногу через край
гроба, и уперся локтем в смятые цветы. Несколько раз он обвел присутствующих
ничего не понимающим взглядом, чуть дольше задержался на лице дочери соседа,
и снова повернулся ко мне. С трудом, подбирая слова и
заикаясь, спросил:
– Из-з-звините, Вы не
зззна-ете, что здесь происходит?
Я вздохнул с облегчением.
– Ну вот и хорошо, ну вот и
отлично… Теперь все образуется, – поддержал я его. От моего ли доброго
голоса или же потому, что начал осваиваться на новом месте, но гораздо
увереннее, почти не заикаясь, новенький переспросил:
– Но все-таки, что это?
Почему все так печальны?
– Ты меня, значит, не
узнаешь? – решил я действовать напрямик.
– Скажите, ради Бога, что
все это значит? Почему все эти люди в трауре? – взмолился он, и попытался,
схватить меня за руку, наивный.
– Да не волнуйся ты так.
Успокойся. Ничего особенного не происходит. Все нормально, все по плану.
– Но?..
– Но что?
– Кто эти люди, что они
здесь делают?
– Прощаются.
– Да?
– Несомненно.
– И могу я узнать…
Я не дал ему закончить очередной вопрос, произнес, весомо и
отчетливо, дабы пресечь дальнейшее непонимание и прекратить диспут:
– Что ты разволновался так?
Обычное дело. Тебя собрались проводить в последний путь, похоронить, значит.
– То есть как это – меня? –
прошептал он сдавлено.
– А кого же?
– Но этого не может быть!
– Почему? – улыбнулся я как можно
дружелюбнее.
– Но я же с вами разговариваю,
значит, я не совсем умер, – с
надеждой в голосе проговорил новенький и к концу фразы, видимо, сам начал
сомневаться в незыблемости своего доказательства.
– Обычное, в общем-то дело…
Все мы смертны… были…
Почему-то он меня до сих пор не узнавал. Меня это
настораживало. Он действительно сильно изменился и приходил в себя с трудом.
Захотел неожиданно вытащить и вторую ногу из гроба, неудачно маневрируя на
столе, перенес тяжесть тела на руку, но не удержался и упал. Никто, конечно,
не обратил никакого внимания. Даже пламя свечки не колыхнулось. Не
поднимаясь с пола, он посмотрел на меня вопросительно. И взгляд его уже был
наполненнее. В нем без труда можно было прочитать: как же, мол, так? Почему
никто не обратил никакого внимания? Я же упал? Почему этого никто не
заметил? Кто я теперь?
Я направился было к нему, чтобы помочь подняться, самому ему
с непривычки еще трудновато было управляться, но, в общем-то, он справился с
первым этапом сносно. Мне оставалось растолковать ему еще кое-какие
подробности, и дальше он бы втягивался сам. Но я не успел сделать даже
движения. В этот момент в комнату энергично вошел брат покойного и тихо, но
властно объявил:
– Время.
Оказалось, именно этого сигнала все и ждали. Помещение сразу наполнилось
плачем, причитаниями, кашлем, топотом, говором. Мужчины как по команде
поднялись и стали потирать руки, как перед тяжелой работой.
Четверо подошли к столу и взялись за ручки гроба. Примерились. Новенький
вскочил с пола, никакой помощи ему не потребовалось. Он, видимо, хотел
протестовать, хотел помешать процессии, стал что-то кричать и активно
размахивать руками. Но скоро, убедившись, что его никто всерьез не
воспринимает, что не обращают на него ровным счетом
никакого внимания и даже равнодушно перешагивают, он ретировался в угол,
смолк и стал покорно наблюдать.
Гроб медленно выплывал из комнаты. На столе осталась смятая
скатерть и почему-то большой ржавый гвоздь. Откуда он взялся-то?
Шум шагов постепенно удалялся из дома.
– Что ж, так теперь и будет
всегда? – спросил новенький, усаживаясь рядом на свободный стул, где недавно
располагалась вдова, и на меня не глядя: – Так со мной и не станет никто
считаться?
В голове его была обида. Можно
понять
человека, который
привык быть
в центре
внимания.
– Пойдем, – встал я и
пригласил его жестом к выходу. – Я знаю, тебе интересно посмотреть, что же
будет дальше. Лично, так сказать, принять участие. Это поучительно…
Тут он повернулся ко мне и сказал очень здраво:
– Да я примерно представляю
себе…
Но я настаивал:
– Да нет же, пойдем! Это
важно!
И он повиновался. Собственно, иначе и быть не могло, я еще не
встречал никого, кто бы отказался от такой возможности. В прихожей он
остановился перед зеркалом. Приоткрыл траурную драпировку и посмотрел на
дымчатое отражение. Я понимал его интерес и не беспокоил. Наконец, забрав
для чего-то одежную щетку, он отвернулся от зеркала, прошептал: «Да, теперь
все ясно». И мы вышли на улицу.
Довольно скоро мы нагнали процессию, хотя она и спешила.
Музыки не было. По плану она должна была встретить нас на площади, где
замедлится продвижение, где снова появятся в изобилии печальные лица
знакомых и малознакомых людей. Мы влились в процессию в тот момент, когда
она повернула на центральную кладбищенскую аллею.
Мой спутник с интересом смотрел по сторонам, заглядывал в
лица соседей, прислушивался к их тихим голосам. Он надеялся услышать
откровения о том, кого провожают.
– …Да нет же, я требовал… Я ей говорю, ты попробуй, мол, с закрытыми
глазами.
–
А она?
– Ну, сначала маялась, краснела даже, признавалась, что ей и представить это
противно. А я ей наливаю еще вина и продолжаю, говорю разные ласковые слова,
а сам, словно невзначай облокачиваюсь на ее бедро…
– А она?..
Это шептались двое в конце процессии. Низенький с маслянистыми глазами
человек в плаще рассказывал, а горбоносый сутулый в очках слушал и
переспрашивал поминутно. Так как он был много выше своего товарища, ему
приходилось постоянно наклоняться. Со стороны это выглядело вполне траурно и
добропорядочно. Идут коллеги, склонив головы, перешептываются сдержанно,
чтят память.
– Не просто идти так, в три погибели согнувшись, – сказал новенький, а про
себя подумал: «Скоты, нашли время!».
Чтобы поддержать его, и я высказался по этому поводу:
– Но каков негодяй, этот маленький-то! Ведь это он рассказывает о твоей
жене! И явно привирает.
– Как о жене? – остановился новенький. И если бы мог, он еще больше
похолодел бы от посетившей его догадки. Трудно сказать, что он предпринял бы
в следующий момент, какая судьба ожидала бы маслянистые глазки рассказчика,
но в этот момент с удручающим рыком грянула похоронная музыка. Процессия
вливалась в кладбищенские ворота.
Сторож, по случаю дела, переодевшись и
не слишком пьяный, встречал гроб у ворот, как постовой, по стойке смирно.
Когда все положенные слова были сказаны и церемония исчерпалась, гроб
заколотили и
стали опускать в могилу. Музыка рвала душу на
части, рыдала, звенели литавры. Я взглянул на своего соседа и
удивился: он плакал.
«Да, странные все же эти свеженькие, – подумалось мне, – неужто и я был
когда-то таким?».
–
Что ж тут странного? – спросил он меня вдруг, ты послушай, – что он
говорит-то! – и взглядом показал на коротышку в плаще.
Горбоносый стоял у дерева, приникнув ухом к губам рассказчика, нервно жевал
и дергал руками в карманах. Низенький сложил свои ручки на животе и
сладострастно продолжал:
– …а потом понравилось… Разумеется, говорю. Она никак не могла справиться с
платьем, я ей помог, отвернулся вежливо эдак… Ох, эти моменты, когда женщина
уже твоя, но какие-то мгновения еще разделяют вас… Она сказала тихо: «Можешь
повернуться, только задерни шторы»…
У горбоносого потекли слюни.
– Да не обращай ты внимания, – спокойно сказал я, утешая товарища,
продолжавшего плакать у меня на плече.
Гулко ударились о крышку гроба первые комья сухой глины. Скоро гроб скрылся
под слоем земли.
– Пойдем, мне надоело тут, – проговорил новенький.
Я понял, что он постепенно приходит в себя и обрадовался. Так обычно и
случается. Тут мало умереть. Тут важно пережить само отлучение, которое
имеет странную форму прилюдного закапывания в землю.
Расстаться…
Могила была выкопана усердными ребятами глубокая, засыпать ее пришлось
долго. Сторож старался быть серьезным, но в предвкушении заслуженной выпивки
его так и подмывало улыбнуться. Он часто поплевывал на ладони, крякая,
справно орудуя лопатой.
Дочь соседа стояла, потупив голову, ближе всех к краю могилы и мешала
работать. Взгляд ее был пуст. Она машинально считала количество лопат земли,
брошенных на гроб, наверно, загадав что-то свое, связав себя
цифрами с ритуалом.
Ее отец украдкой зевал и поглядывал на часы.
Мой новый приятель вынул из кармана похищенную в доме одежную щетку,
тщательно вычистил рукава своей одежды и бросил ее в могилу. Видимо,
вспомнив что-то, улыбнулся. Повернулся ко мне и проговорил окрепшим голосом:
– Да, теперь мне все ясно. Пойдем!
Он бодро шагнул через засыпанную могилу, прошел мимо замершей дочери соседа
и браво
оттолкнул плечом горбоносого, который, разумеется, ничего не заметил.
Затем оглянулся на меня еще раз, подмигнул и резко побежал по кладбищенской
аллее к выходу.
Сторожиха сидела на привычном месте и вязала чулок. Кот спал рядом, не
обращая никакого внимания на соблазнительно прыгающий клубок шерсти.
Я догнал новенького на середине дороги. Он шагал весело, размахивая руками.
Он широко улыбнулся мне и показал вперед, где в створ огромных деревьев
живописно заходило солнце. Оно было огромное, малиновое.
– Красота-а-а… – выдохнул с
наслаждением мой спутник.
И мы пошли вместе.
*


Нередко, выпроводив последнего ученика, Николай Владимирович
задерживался в своем классе у инструмента, играл что-нибудь для души,
а то и пытался в аккордах, в мелодии импровизации нарисовать картину
прожитого дня, выразить в звуках
хлопотливое утро, сутолоку булочной, или разговор с женой,
вид
запыхавшегося ученика, забывшего подготовить домашнее задание или
просто шум дождя - это было так интересно и увлекательно,
что Николай Владимирович забывал о времени и только после повторного
напоминания технички тети Клавы спохватывался и шел домой.
По дороге он мурлыкал только что рожденную мелодию и вспоминал
своего ученика Сергея Сергеева.
- Ну что, Сергеев, сегодня не удалось сбежать? - спрашивал мальчика учитель
музыки, когда тот под конвоем мамы или бабушки переступал
порог класса.
Сергей
обреченно вздыхал и покорно шел к инструменту. Садился и принимался
неуклюжими пальцами с обкусанными ногтями терзать клавиши, издеваясь над
музыкой и над Николаем Владимировичем. Словно в отместку за
то,
что его принуждают заниматься совсем не тем,
к
чему
лежит его душа.
Ах, с каким
удовольствием он сейчас носился бы на велике или лазил
по чердакам, гонял бы мяч или на скейте.
Учитель всегда с
удовольствием выслушивал корявые, варварские этюды Сергеева, - в них
чувствовался характер, неповторимая индивидуальность исполнителя и кроме
всего прочего улавливалась гармония. Как специалист-педагог, Николай
Владимирович отлично понимал, что силком заставить полюбить занятия музыкой
невозможно. Строгостью нетрудно добиться послушания ребенка, отбывания
часов, но повернуть сознание таких учеников, как Сергеев, на получение
удовольствия от музыки нельзя. Тихий и дисциплинированный "нос" - Аркаша
Фридман, приходит всегда заранее, всегда
готов, всегда послушен и исполняет всегда любое задание так, что не
придерешься.
Такая же
и Аллочка, девочка очень тучная, сластёна, краснеющая при каждой даже самой
незначительной ошибке и носящая на голове
дивно-огромные банты.
Но вспоминал Николай Владимирович
именно Сергеева, который нередко раздражал своим
упорством, упрямством и отчаянным стремлением
поскорее отбыть каторгу и умчаться на улицу, но который и поражал
иногда чистотою
сыгранной вещи. Стоило сказать - что тот
будет отпущен немедленно как только
правильно сыграет, Сергеев преображался, уверенно, легко и
безошибочно выполнял задание и
оборачивался с мольбой: ну как? я могу идти?
Николай Владимирович
задавал ему на следующий урок что-нибудь посложнее, чем остальным и
отпускал. Было в этом Сергееве что-то такое, что заставляло вспоминать о нем
даже дома, после работы.
“Интересно бы узнать, что вырастет из него?” - часто спрашивал себя Николай
Владимирович.
В ответ воображение рисовало самые невероятные прогнозы:
Сергеев-разбойник, космонавт, пожарник или каскадер на
киностудии. И никак не получалось заставить себя увидеть его в строгом
черном фраке у концертного рояля.
В этом непоседе, грубияне, фантазере и
выдумщике Николай Владимирович чувствовал ту жизненную силу, которой был
лишен сам. И потому может быть так тянулся к Сергееву, радуясь
общению с мальчиком, заряжаясь от него искрящейся неистощимой энергией,
задором, словно зажигаясь от фейерверка.
Что думал о своем учителе
музыки Сергеев, неизвестно.
Да и думал ли вообще, кто
знает?
Скорее всего, Николай Владимирович сливался для него в общий малоприятный
фон обязательных сложностей жизни, которые придумывают для своих детей
взрослые, и исчезал из
памяти сразу после
того,
как выпадал из поля зрения, как закрывалась
классная дверь. Николай же Владимирович общался - мысленно, конечно - со
своим странным учеником почти ежедневно.
Сам того не
замечая, постоянно прикидывал в любой жизненной ситуации - как бы повел себя
Сергеев, что бы сказал Сергеев, как бы он оценил тот или иной случай.
У
самого учителя детей не было, и ту энергию любви, которая жила в сердце,
которую пора было расходовать, тратить было не на кого. Может быть поэтому
он часто задерживался в классе у рояля и выражал в музыке все то, что нельзя
выразить словами, да и нужно ли выражать?
- Как же нам быть, Сергеев? - привычно спрашивал иногда Николай Владимирович
сам себя, размышляя о чем-нибудь.
И так получалось, что всегда Сергеев помогал найти ответ, во всяком случае
непременно подсказывал что-нибудь неожиданное.
Странный был ученик этот Сергеев.
Но сегодня Николай Владимирович не успел вспомнить своего мучителя.
Выйдя из школы, он заметил, что прямо на его пути стоит крупная широкая
фигура: угадывался высокий мужчина. Свет был только у арки и потому в
темноте фигура представлялась особенно зловещим силуэтом. Николай
Владимирович попробовал обойти преграду стороной, но ничего не вышло, так
как и она сдвинулась влево, явно преграждая дорогу. Тогда Николай
Владимирович остановился и как мог решительно посмотрел на верхнюю часть
фигуры.
Из-за холода очков Николай Владимирович не надевал и потому представлялась
ему сейчас фигура размытой и неопределенной. Но голова должна была быть
именно там, куда учитель музыки направлял свой взгляд...
- Что вы? - спросил своим высоким голосом Николай Владимирович.
Фигура молчала и слегка раскачивалась из стороны в сторону.
- Пропустите меня, слышите! - строго, как в классе, заявил он, и попытался
перейти на другую сторону тротуара. Но мужчина стоявший перед ним остановил
его:
- Николай Владимирович, извините, пожалуйста, за столь позднюю встречу, но
мне нужно с вами поговорить...
Услышав вполне трезвую и
спокойную речь, да еще и собственное имя, Николай Владимирович успокоился и
полез в карман за очками. Взглянув затем на обратившегося к нему человека,
он пытался вспомнить это крупное и моложавое лицо, но не мог. Мужчина был
вполне благообразной наружности, ухоженный, чисто выбритый, приятно
пахнущий. Видно было, что моложе Николая Владимировича. Глаза светлые,
чистые, детское выражение им придавали пушистые длинные ресницы.
- Простите, но мы, кажется, не знакомы, - проговорил Николай Владимирович.
- Да, - просто ответил молодой человек в шубе.
- Откуда же вы меня знаете?
- Знаю… - неопределенно протянул тот.
- И о чем же вы хотели говорить со мной? Частных уроков я не даю, а об
устройстве в школу говорить надо не со мной, а с директором…
- Нет, Николай Владимирович, я не об этом…
Учитель музыки сделал неловкое движение плечами, - он замерз. Пальтишко на
нем было старенькое и куцее. Остановивший же его мужчина был в массивной
шубе и не мог понять этого движения.
- Ну, тогда давайте пройдем ко мне домой и побеседуем, раз уж это настолько
срочно, что вы меня поймали на улице. Долго ждали?
- Нет, Николай Владимирович, домой я к вам не пойду. Если вы не очень
возражаете, давайте зайдем куда-нибудь, посидим, потолкуем. Хотя бы вот
сюда…
Николай Владимирович явно не был расположен к тому, чтобы идти куда-либо,
тем более в ресторан. В рестораны он вообще не любил ходить.
- Вы знаете…- начал было отказываться он, но высокий молодой человек перебил
его вполне учтиво:
- Мы недолго, Николай Владимирович. И поймите, это очень важно и для меня и
для вас.
- Да? - изумился учитель музыки. Сказано было таким тоном, что можно было
подумать, и в самом деле что-то их связывает.
- Пожалуйста, Николай Владимирович...
Учитель вздохнул, боднул головой воздух и решительно зашел в ресторан.
Рядом с высоченным, красивым, спокойным и сильным незнакомцем он чувствовал
себя, очень неловко, скованно. Тот был в кожаном пиджаке темно-коричневого
цвета и бежевой рубашке. Распоряжался очень спокойно и явно не спешил
говорить, зачем позвал сюда учителя музыки. Заказал водки, закуски,
предложил закурить, но Николай Владимирович отказался.
Он вообще не курил.
“Интересно, как бы повел себя Сергеев, если б увидел меня здесь?” - вдруг
подумалось учителю. А впрочем, как он может меня здесь увидеть, если его
просто не пустят сюда, он же еще маленький. Маленький, а уже курит. Я
слышал, как от него пахло табаком.”
Принесли водку и закуску.
Незнакомец спокойно и умело до краев налил две рюмки.
- Давайте выпьем, Николай Владимирович.
- Я не пью, - спокойно ответил учитель музыки.
Он и в самом деле был уже совершенно спокоен. И ему помимо всего прочего
очень симпатична была цветовая гармония, излучаемая неожиданным
собеседником, нравилась бежевая рубашка этого странного молодого человека,
углы воротника ее были округлыми, и полоски с приятным рисунком так
гармонировала она с коричневою кожей пиджака: что называется, человек был
собран в цвете.
- Меня зовут Станислав, - представился молодой человек, отставив рюмку.
Уговаривать учителя выпить он не стал.
“Тактичный к тому же.”
- Очень приятно. А меня… Впрочем, вы же знаете… Итак, я вас слушаю, -
отозвался Николай Владимирович.
- Вы знаете, Николай Владимирович, я думал, всё будет гораздо легче. Вот уже
неделю готовлюсь к этому разговору. Я не сразу решился подойти к вам. Вы
понимаете? Дело в том, что я очень не люблю, когда что-то не ясно или
сомнительно, когда что-то – короче - не устроено. Я предпочитаю ясность во
всем, чтобы не было... Еще короче, я встретил вас, чтобы сказать, что люблю
Зою. Вот…
- Ну хорошо, а я то тут при чем? Чем я могу вам помочь? – Подышав на стекла,
стал протирать платком очки учитель.
- Вы не поняли меня. Я люблю Зою, вашу жену, Николай Владимирович.
Тут учитель музыки странно улыбнулся и посмотрел на узкие губы Станислава в
ожидании, что они тоже улыбнутся или, что они скажут что-нибудь еще.
Но Станислав сидел молча и серьезно глядел на Николая Владимировича. Это не
было шуткой. Имя Зои прозвучало не случайно.
- Что? - переспросил учитель и надел очки.
- Я прекрасно понимаю, что мужу должно быть не очень приятно слышать такие
признания от практически постороннего человека, но что же делать, если,
короче, так получилось...
- Не очень приятно, - проговорил едва слышно учитель.
Странные, незнакомые чувства вдруг стал наблюдать в себе
Николай Владимирович. Он съежился весь от наплыва незнакомых
ощущений, как от мороза.
"А собственно, что сказал этот Станислав? - подумал он, как о совершенно
постороннем. - Сказал, что любит мою жену, И все. Почему же мне это
воспринимать как неприятность? И пусть себе любит. Она хороший человек. Да
почему же это я, как дурак потерялся?..”
Он попытался улыбнуться, но вышла жалкая гримаса. И он это отчетливо
сознавал
Через некоторое время дрогнувшим голосом учитель спросил:
- Это все, что вы имели мне сказать?
Станислав удивленно поднял брови.
- Да, все, - и выдохнул облако мальборовского голубоватого дыма..
- Тогда спасибо и до свидания, - проговорил Николай Владимирович и
решительно встал из-за стола.
- Подождите, Николай Владимирович, - встал за ним следом Станислав. Он тоже
был растерян и не знал, что делать дальше.
- Зачем? - повернулся к нему учитель.
- Ну, я не знаю. Как-то оно…
- Не переживайте, мой друг, все будет хорошо, все будет прекрасно…
“Господи, как все это пошло, как нелепо… И с чего это
вдруг вы так уверены, что будет все хорошо и даже прекрасно, скажите
мне на милость?”
Николай Владимирович оделся и вышел из ресторана.
В голове было неприятно пусто и все время почему-то вспоминалась бежевая
рубашка...
“ Как же нам быть, Сергеев?” - спросил вслух у самого себя Николай
Владимирович.
- Что- что? - Остановилась пожилая женщина в рябой шубе. – Вы это мне?..
Николай Владимирович взглянул на нее, ничего не сказал и пошел дальше.
Женщина посмотрела ему вслед и скривила презрительно губы:
- Идиот!
"Как же нам быть? Зою любит другой мужчина... И если он отважился сказать об
этом, то значит у них что-то было. Значит и она любит его."
Учитель музыки представил себе это "что-то", смеющуюся Зою и Станислава в
бежевой рубашке...
Стало тоскливо.
Домой идти не хотелось.
Надо было как следует разобраться в произошедшем.
"Я всегда, все восемь лет говорил
Зое только правду. При этом почему-то был уверен, что и она не обманывает
меня. Как же я мог не верить ей? Подозревать? Какая низость... Но в то же
время никак нельзя предположить, чтобы Зое, красивой и умной женщине, не
понравился такой высокий и стройный мужчина, как этот Станислав. Ведь что
я?.. Серый свитер с заштопанными манжетами. Очки. И музыка с утра до
вечера... Сергеев... Но мы жили восемь лет дружно и очень хорошо, как мне
казалось. У нас всегда было все необходимое. Было хорошо...
А почему, собственно "было"? Все и осталось по-прежнему. Подумаешь,
признание какого-то хлыща влюбленного! - храбрился Николай Владимирович,
однако предательский холодок продолжал сжимать сердце. – Почему, собственно,
хлыща? Вполне приятный и воспитанный молодой человек… Любопытно, чем он
занимается?.. Удачливый, должно быть, предприниматель… Завидная в отличии от
меня партия… Ну дай бог ему здоровья. Но что же нам теперь делать? Что
делать, Сергеев? Ведь перепуталось все, перемешалось. Мне сказал о любви Он,
а не Зоя. Почему Зоя сама не сказала, что я ей надоел, что она меня больше
не любит?..
Любовь... Что такое любовь, Сергеев?
Откуда тебе знать, малыш...
Мы с Зоей познакомились на концерте. Ничего особенного у нас не было, но мы
как-то привыкли друг к другу и само собой вышло, что мы поженились...
Любовь… Может быть это и есть
любовь, когда все получается само собой... Но почему же она сама мне ничего
не сказала? Это значит, что уже какое-то время изо дня в день она лгала мне,
она смотрела мне в глаза, она спала со мной и постоянно сознательно лгала,
обманывала меня, своего мужа. Как же нам быть? Но, позволь, Сергеев, почему
я должен верить первому встречному-поперечному, и не верить своей жене, с
которой живу уже почти десять лет? На каком основании я сомневаюсь в ее
честности? Только потому, что возник из темноты некий Станислав и поведал о
своей любви?"
Николай Владимирович незаметно для себя подошел к дому и остановился у
подъезда. Было очевидно, что не верить Станиславу не было никаких оснований.
Входить не хотелось.
Он повернул обратно и направился к площадке, оборудованной под каток. Оттуда
доносились голоса детей, смех, крики. Хоть и было уже поздно, катающихся на
льду было много. В ближнем углу было особенно оживленно, - играли в хоккей.
И Николай Владимирович увидел знакомую фигуру, услышал знакомый голос в
самой гуще этих хоккейных событий. В вязаной шапочке, ловкий и быстрый на
коньках носился Сергеев.
"И когда это он успел?" - подумал учитель и стал смотреть за движениями
своего нерадивого ученика.
Сергеев никого и ничего не замечал, самозабвенно гоняя шайбу, споря, смеясь,
выкрикивая какие-то непонятные слова...
Он конечно, не мог знать, что тут стоит его учитель музыки, смотрит на него
с улыбкой и завистью...
Да, Николай Владимирович на какое-то время совсем забыл о Станиславе, о
разговоре, о том, почему он не дома, забыв все, смотрел на ловкие движения
Сергеева и завидовал ему, завидовал его беззаботности и лихости, и даже
тому, что завтра он со спокойными глазами будет говорить ему, учителю, что
не смог подготовиться к уроку, потому что заболела бабушка...
Завтра...
"Как же нам быть, Сергеев?" - снова спросил себя Николай Владимирович. И тут
шайба вылетела с площадки и ударилась в металлическую сетку прямо перед ним.
Учитель музыки вздрогнул. И увидел, что к шайбе устремился Сергеев.
Мальчуган мельком взглянул на стоящего за сеткой человека и хотел было
бежать обратно, но вдруг, словно сообразив что-то, обернулся.
- Ой, Николай Владимирович... Здравствуйте...
- Здравствуй, Сергеев, - ответил Николай Владимирович и улыбнулся, ведь
виделись они всего час назад...
Сергеев стоял и смущенно лупил клюшкой по снегу.
- Иди, иди, играй...
- А вы, Николай Владимирович?
- Ну что ты, что ты... Иди уже, тебя ждут...
- Обождут... А вы что, не любите кататься, Николай Владимирович?
- Я просто не умею...
-...Так давайте я вас научу, это так просто...
- Хорошо, как-нибудь в другой раз.
- Ну, я пойду...
- Иди, иди...
Сергеев, весело взглянув на учителя, подпрыгнул и лихо проехал по льду.
Видно было, что он старался для Николая Владимировича, хотел
продемонстрировать ему свое умение...
А учитель продолжал улыбаться, глядя на него, и думал:
"Просто. Это хорошо, когда все просто. Когда все хорошо, тогда все кажется
просто... А когда плохо, то оказывается все так сложно. Почему так бывает,
Сергеев?.. Не знаешь? Ну вот и я не знаю..."
А Сергеев как раз забил гол, весь сиял и смотрел на учителя.
Николай Владимирович улыбнулся ему, помахал рукой и пошел к своему дому.
В первый раз за многие годы Николаю Владимировичу не хотелось идти домой.
И это очень угнетало его.
Словно что-то чужое и неприятное ожидало его там. Там, где прожито столько
счастливых или просто нормальных дней...
Это очень грустно, когда не хочется идти домой...Но куда денешься. Наверное,
если бы такое сказали этому самому Станиславу, он пришел бы домой и спросил
бы у жены открыто, правда ли это. Он сразу бы разобрался.
А Николая Владимировича особенно терзало то, что он не сможет ни о чем
спросить, а будет только смотреть на Зою и пытаться самостоятельно найти
ответ...И сколько все ото будет продолжаться?.. Никто не знает...
"Ох, как все непросто, Сергеев"...
Николай Владимирович пешком поднимался по ступенькам.
И чем ближе был седьмой этаж, тем медленнее он шел.
Вдруг учитель заметил, что в нем звучит неясная мелодия, удивительно
знакомая тема, волнующая и грустная...
Николай Владимирович остановился, прислушался. Тема, родившаяся на лестнице,
властно вытесняла все переживания и забирала внимание. Он уже мурлыкал ее,
спустился на несколько ступеней и снова пошел вверх, повторяя физическое
ощущение, при котором впервые услышал тему. Быстро вбежал в квартиру и, не
раздеваясь, бросился к пианино. Пальцы сами делали свое дело, все было легко
и удивительно просто. Николай Владимирович проиграл мелодию, повторил, тут
же родилась, зазвучала вторая линия темы, родившаяся из первой, она
развивалась, торжествовала и постепенно угасала. Финал, казалось, должен был
бы быть грустным и печальным, идти на коду, но неожиданно явились сочные,
яркие аккорды, бурлескные краски хоккейной баталии, вновь полновесно
зазвучала основная тема, разрастаясь и побеждая...
Финал продолжал звучать в ушах Николая Владимировича, руки уже писали,
писали, писали. Листы нотной бумаги, много дней мучавшие глаза, теперь
заполнялись легко и просто, словно под диктовку...
Глаза композитора сияли, сердце билось часто и гулко. Он чувствовал, он
знал, что только это-правда, что вот так и должно быть, что именно это имеет
смысл, а больше ничего и не нужно...
Николай Владимирович не заметил, что просидел за инструментом почти до утра,
что исписал целую кучу бумаги, что так и не снял своего поношенного пальто и
что Зоя не пришла спросить его "Ты что, с ума сошел играть в такое время?"
Не заметил, что Зои не было дома...
"Как все просто и как все прекрасно!" - светилось в его глазах.
Он закончил писать. Снова сыграл финал, кое-что исправил и почему-то громко
засмеялся...
- Ну что, Сергеев, каково?!
Николай Владимирович был доволен собой...
*


Стройся! - раздается
громкий начальствующий голос.
- Равняйсь!
Смирно! Шагом марш!
Колонна мужчин гулко
начинает печатать шаги.
"Нале-во."' "Напра-во!"
"Кру-гом!"
Звучат
команды.
Послушно, слаженно, словно
связанная невидимыми нитями, колонна выполняет волю начальственного голоса.
"Стой!"
За всем этим большими
ясными главами наблюдает белокурый мальчик. Он стоит у тяжелой решетчатой
ограды. Смотрит не отрываясь на движущиеся фигурки людей.
"Гтовсь!" - Шеренги
вскинули винтовки.
"Отставить!" - Также
послушно опустили.
"Гтовсь! Пли!" - Раздался
залп.
"ПЛИ!" - залп.
"ПЛИ!" - еще залп.
Мальчик упал.
Под высокими средами
большого и пустого зала плывет музыка. За инструментом седой старик. Тонкие
сухие пальцы любовно прикасаются к клавишам.
Кончилась мелодия.
В самом дальнем углу
огромного зала притаился мальчик с ясными глазами, слушает.
Старик сжал пальцы,
выпрямился. Проходя по залу, увидел мальчика, остановился.
- Тебе не страшно было
одному?
- Я не знаю... Я слушал
музыку...
Раннее утро. Они шли
вместе,- седой высокий старик и мальчик.
- Хочешь, я куплю тебе
большую сладкую конфету?- спросил старик.
- Нет,- просто ответил
мальчик.
- А на качелях покататься
хочешь?
- Нет...
- Ну тогда давай зайдём в
тир. Все мальчики любят стрелять по мишеням.
Мальчик отрицательно
покачал головой.
- Чего же ты хочешь?
-Я хочу, чтобы ты всегда
играл,- ответил мальчик, останавливаясь и глядя старику в глаза,- чтобы была
музыка....
Задорный, здоровый мужчина
ловко вышел из стойки на руках в нормальное положение. Улыбаясь он продолжал
говорить с мальчиком:
- Что значит "я люблю музыку"? Мал ты еще, чтобы что-то понимать в этом или
чувствовать. Всё это ерунда. Чему тебя обучат, то и будешь ты любить. А
по-настоящему здорово только у нас. Возьми. (Он протянул мальчику яблоко,
тот взял. Сам мужчина с хрустом жевал сочный плод). Что в жизни
главное? - тебе приказали, и всё! ты умри, но выполни приказ. Это твой долг!
Приказ! И никаких гвоздей! Лучше всего, когда все вместе, тогда ничего не
страшно. Ни думать, ни чувствовать не надо. Всё за тебя решено. Кр-расота!
Вот смотри, тут тебе и все главные уроки жизни сразу: будь, как все!
Задорный мужчина, дожевав яблоко и ловко бросив огрызок
в воду, сделал несколько шагов, остановился, встал по стойке смирно.
- Что, говоришь, главное?
Правильно,- правильно поставленный голос!.. Равняйсь!- оглушительно рявкнул
он в подтверждение.- Смир-р-рна!
Колонна мальчиков замерла
перед ним навытяжку.
- "Шага-а-ам-м-марррш!"
Четко печатая шаги,
двинулась колонна. Подчиняясь командам, поворачивала, останавливалась, вновь
шла. Вдруг что-то дернулось в середине колонна. И когда она прошла, на земле
остался лежать мальчик. Мужчина подскочил к нему.
- Встать! Выродок!
Мальчик, худенький и
тоненький с трудом поднялся, вытянулся, закрыл глаза. Мужчина ударил его по
щеке.
- Маррш в сстррой!
А колонна тем временем, не
получив приказа остановиться, продолжала идти. Передние ряды уже заходили в
воду.
Седой старик энергично
отошел от инструмента. Он был явно возбуждён.
- Ну что ж... Неплохо, очень неплохо... (Мальчик смущенно улыбался.)
Признаться, не ожидал... Я так давно не слышал чистого
голоса... (Старик подошел к мальчику, положил свою большую тонкую ладонь ему
на голову.) Ты приходи. Обязательно приходи... Мы будем учиться... Ты будешь
петь. Мы попробуем…
Распахнулась дверь.
Появилась полная женщина в шляпке.
- Ой, вы наверное не
поняли, он такой талантливый, такой талантливый, все соседи говорят, что он
у нас просто страшно талантливый.
(Седой старик слушал
молча.) ...Ну, он просто стеснялся. Может же и талант смущаться... Иди сюда.
(Она втащила своего пухлого сына.) Скажи, что ты стеснялся.
- Ыгы...
- Вот видите, видите. Ну можно мы придём еще разик, попробуем не волноваться
и вам обязательно понравится... да.
Ну, так мы придём со своим
инструментом...
Перед стариком сидел изящный мужчина. Смотрел не мигая, спокойно, говорил
тихо, отчетливо произнося
каждое слово в отдельности, делая
аккуратные паузы, словно опасаясь, что слова могут слипнуться и потерять
придаваемые им вес и значение.
- Буду откровенен. Мы
наедине. Мне бы очень хотелось. Чтобы. Вы. Все-таки взяли. Моего сына...
- Поверьте,
это не от меня зависит.
- Я понимаю. Самому мне
трудно определить степень одаренности моего сына, я не специалист. Но могу
вас уверить, что он – мой сын - не хуже других детей. Хочу добавить, ради
чего, собственно я и пришел, что благодарность с моей стороны... Это
все-таки мой единственный сын, вы понимаете. Так что я готов для его счастья
на любые жертвы. Назовите сумму.
Старик сидел у инструмента,
когда неожиданно вошел начальник - коренастый хорошо одетый мужчина. Старик
встал, вытянулся. Голос начальника звучал особенно громко и важно в огромном
пустом зале.
- Вы это... Тут должны прийти с мальчиком... Да. Так я его сам прослушал, он
очень одаренный. С ним нужно будет как
бы это сказать -
помягче, пообходительнее,
понимаете?.. Да… Такие вот обстоятельства.
Начальник собрался было
уходить, потом остановился и весомо добавил, подняв вверх указательный
палец.
- Это племянник самого!
Бежал, весело, словно
летел, мальчик с ясными глазами на встречу с седым стариком, с музыкой.
Приветливо светило солнце, щебетали птички.
Старик надевал свой
парадный костюм. Волновался. В зале, заняв большую часть сцены, стоял хор
мальчиков. Среди других был и мальчик с ясными глазами.
Небрежно раскинувшись,
сидел в зале коренастый, хорошо одетый начальник. Торжественно прошел перед
хором старик. Остановился.
Хор замер.
Поднялись тонкие изящные
руки седого старика.
По широкой лестнице, тяжело
дыша, торопилась по ступеням вверх полная женщина с пухлым сыном и футляром
виолончели.
В притихшем зале с
пронзительным скрипом распахнулась дверь.
Все обернулись на звук.
- Ой, извините, ради бога,
мы больше не...
Женщина смолкла под
взглядом начальника, затаила дыхание.
Руки старика собрали
внимание хора, замерли на мгновение, взметнулись - хор начал высокую и
сложную мелодию.
Вдруг резко прозвучал голос
начальника:
- Стоп! В чем дело? Почему
он не поёт?..
Палец начальника указывал
на мальчика с ясными глазами.
Тот смотрел на старика.
- С самого начала! Еще раз.
Без фокусов! И громче! Все дружно! - Скомандовал начальник.
Сидел
и жевал пухлый мальчик на футляре виолончели. Мама его украдкой
разворачивала шоколадную конфету.
Вновь собрали тишину руки
старика.
Замерли на мгновение.
Взметнулись - начал петь хор. Мальчик с ясными глазами молчал. Начальник
взбежал на сцену к старику.
- Стоп! Что происходит?
Объясните мне!
Старый руководитель хора
молчал.
-
Он что, немой? Как он сюда попал? – палец тыкал в первый ряд хора.
- У него дивный голос...-
тихо проговорил старик.
- Почему же он молчит? Он
что, хочет опозорить меня – все, значит, поют. А он, значит, молчит?
Мальчик посмотрел прямо в
глаза кричавшему и тихо произнес:
- Я люблю петь один... Я не
могу, когда все... вместе...
- Мне плевать на то, что ты
любишь! Ты будешь петь, как все!
- Я не могу...
- Не можешь?
Иди сюда! (Мальчик подошел. Начальник ударил его по щеке. Вздрогнул
старик, опустил глаза.) Теперь сможешь?
Мальчик со слезами в глазах
отрицательно покачал головой.
- Выродок! Марш отсюда! -
прокричал начальник.
Старик стоял, низко опустив
голову.
- А можно мы попробуем? У
нас получится...- донесся из зала голос полной женщины, - мы будем
стараться...
Она подталкивала своего
пухлого сына. Тот проворно занял освободившееся место.
- Приготовились! -
прозвенела команда начальника.- Все вместе. Дружно в унисон! Громко!
Начали!..
Огромный зал, переполненный
публикой, взорвался овациями, громом рукоплесканий.
Медленно
летели на сцену брошенные в восторге цветы…
*

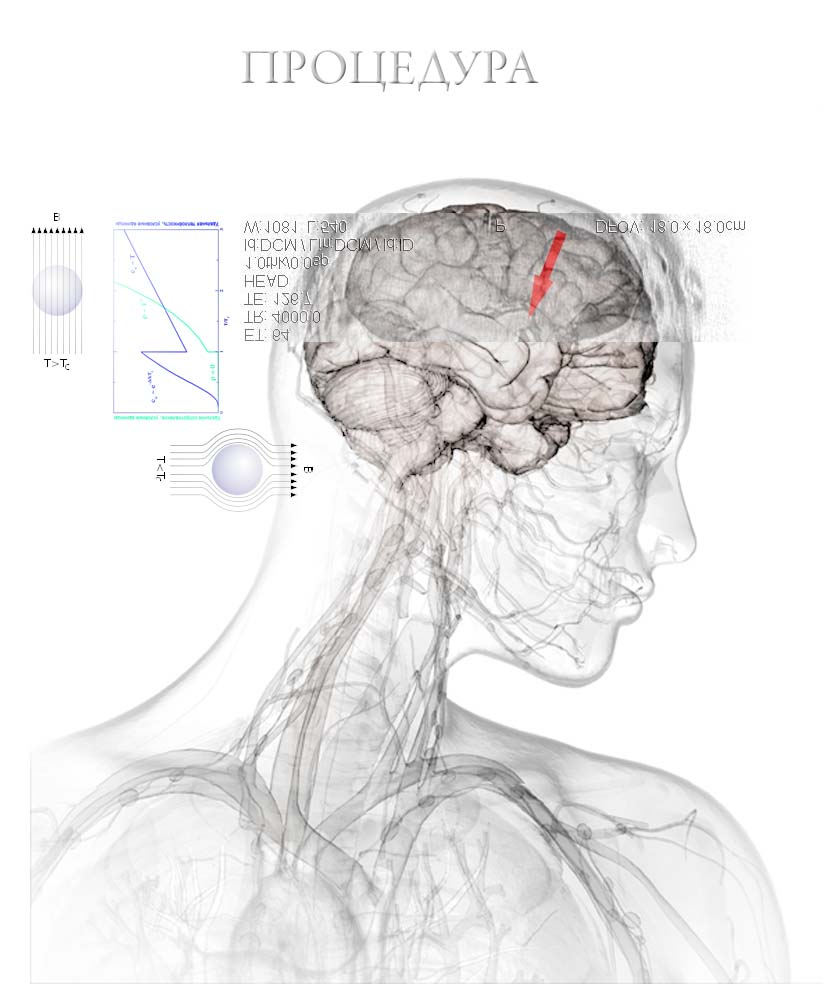
Конспект энцефаллограммы № И-2345\ф-с Е11
...самое же трагичное в моём положении то, что я даже убить себя не в
состоянии. Не
то, что не смею, а просто-напросто лишен возможности сделать это
каким бы то ни было
способом. Спасение слабых, оправдание безвольных, утешение отчаявшихся - и
это не для меня…
Подо
мною - мягкое, вокруг меня прочное и упругое – словно в коконе,
многослойной тьмою укутан я...
Разве что
ОНИ сами сделают со мною что-нибудь…
Но и на это рассчитывать не приходится…
Лишь на естественный ход событий...
Мне так порою жаль тех, кто вынужден быть со мною рядом, видеть меня,
обхаживать, производить все те манипуляции, которые призваны поддерживать во
мне жизнеспособность - сколь
незавидна их доля... Может быть,
это им назначено в наказание за грехи?
Но,
видит бог, не я виноват в этом, не я...
Даже свободы потребовать я не могу, и их освободить тем самым от
себя - не виноват, не могу - какая уж тут вина...
Я иногда чувствую прикосновения металлических
предметов, зажимов, прищепок, патрубков пластин. Что со мною делают, я не
знаю, но могу предположить, это связано с медицинскими исследованиями:
конечно же, такое представляет определенный интерес для изощренных ученых,-
есть, что им изучать, вне всяких сомнений. Кроме того, и процесс поддержания
во мне жизни сам по себе тоже является экспериментом, требует немалых
усилий. Сколько я себя помню - постоянно рядом, то
возникает, то исчезает, одна и та же мягкая теплая ладонь. Большая,
как жизнь, она то прикасается к моей голове чуткими пальцами, то тихо
поглаживает, то слегка постукивает, то
быстро пробегает, словно скользя по поверхности. Чуткая ладонь
пытается пробиться ко мне, "говорит" со мною разнообразными
прикосновениями, помнит обо мне, во всяком случае показывает, что
помнит, и всякий раз возвращается ко мне из сплошного мрака. Приходит...
Приближение этой ладони я начинаю чувствовать задолго до первого
прикосновения - словно
наполняется пространство электрическим током, воздух
становится тугим, горячим - я ни
разу еще не ошибался: всегда после волны искрящегося холода
появляется теплая ладонь. Прикосновение её - словно награда за предчувствие.
В краткий миг соприкосновения я стараюсь всё
рассказать этой ладони, всё поведать, что чувствую и думаю, в
радостном возбуждении мне кажется, что я начинаю слышать ответы, что мы и в
самом деле беседуем. Разными обликами я наделял продолжение этой ладони.
Чаще всего представляется мне пожилая женщина в светло-сером платье с
аккуратно зачесанными назад светлыми волосами и с нежным добрым взглядом
светлых глаз. Никогда в своей жизни не видел я такой женщины, но вот что-то
выстраивает во мне именно такой образ - не четкий, не конкретный, всякий раз
меняющийся, но единственный, родной. Иногда мне кажется, что в облике этой
женщины я вспоминаю детство своё. Хотя я ничего не помню, и утверждать, что
видел её когда-то, не могу. Искрами, длинными лентами вспышек приходят ко
мне изредка болезненные видения чего-то яркого и несущегося навстречу. Я
чувствую, как что-то начинает бешено колотиться во мне, как тяжело мне
становится дышать, как переполняет меня крик о помощи. Ничего страшнее таких
минут - или часов - или дней (я не имею представления о течении времени,
когда накатывается подобное) я
не испытывал. И страх этот угнездился во мне глубоко, полно. Он надвигается,
словно прилив в узком фьорде, переполняет изнутри и грозит задушить,
разорвать. Я снова и снова проваливаюсь в черноту - когда стараюсь
освободиться от страха. И всякий раз приходит ко мне на помощь одна и та же
ладонь - моё спасение. Чередование прикосновений для меня единственный мост
в мир, о котором я знаю только, что он есть, что он большой и яркий,
праздничный, веселый, пестрый, что там есть бескрайнее небо... Прикосновение
почти всегда начинается
одинаково - ладонь ложится на мой лоб, словно измеряя температуру, мягко
перебирает пальцами, потом нежно, как бы обнимая меня,
сползает по виску к уху, на мгновение задерживается там и снова
останавливается на лбу. За это время и я успеваю сделать свои главные
движения - наклонить голову вслед за ладонью и двинуть плечом. Потом я опять
жду. Жду нового появления ладони. Думаю о ней... Наверное, это очень смешное
и жалкое зрелище - для тех, кто видит меня со стороны. А может быть, меня
даже показывают, как экспонат, различным специалистам в области
редкостей. Сквозь тяжесть постоянной завесы, непроницаемой темени,
несвободы, я знаю
о том, что вокруг есть другой мир,
живущий по своим законам. Знаю, наверное, потому что помню, а может быть,
это передает мне своими прикосновениями большая, как жизнь, ладонь.
Кроме изредка накатывающих на меня волн шумов и тресков,
булькающих, далёких, как воспоминания, звуков я ничего никогда не
слышу. Не знаю, издаю ли сам какие-либо звуки. Даже тогда, когда мне удаётся
представить себя легкого и свободного, бегущего, прыгающего, размахивающего
руками и громко кричащего - я реально ощущаю лишь появление на моём лбу
настороженной ладони, которая задерживается чуть больше обычного и
прикасается ко всем остальным местам. Может быть, всё-таки ладонь слышит
меня, раз она постоянно появляется именно в моменты моих отчаянных попыток
закричать, разорвать пространство темноты и немоты? Может быть, что-то и мне
удастся услышать кроме монотонного раскатистого гула, заполняющего изредка
пространство, и словно плотным
куполом накрывающего меня?.. Для этого нужно что-то делать, нужно стараться,
как можно полнее использовать короткие мгновения наших контактов и всякий
раз иначе что-то "говорить" ладони новым движением или наклоном, или
вздрагиванием. Но вот только - как
убедиться, что ладонь понимает меня верно, что она слышит меня? А
если сильно выдувать воздух, двигать кожей,
задерживать дыхание - это уже целая палитра красок, это уже
гамма... Впрочем; всё гораздо проще – у меня нет иного пути и надо стараться
делать то, на что я еще способен, делать и уповать, что ладонь каким-то
образом поймёт меня. Поймёт... Господи, да что же она сможет понять-то? Что
тут и кто сможет разобрать?.. Ей поручено поддерживать во мне жизнь, вводя в
организм необходимые продукты, вот
она и выполняет поручение со всей доступной аккуратностью - а
прикосновениями своими просто проверяет, что жизнь во мне действительно
поддерживается - дёргает башкой – значит не подох! Поймёт, как же...
Лишь в мыслях является порою достигнутым определенный контакт.
Совершенно реальным представляется, что Они сумели там придумать хитроумный
прибор и теперь могут следить не
только за изменениями температуры моего тела, не только за исправностью
пищеварения, пульса и чего-то там еще, но и с
помощью своих
присосок, зажимов, прищепок,
проводников умеют наблюдать за течением моих мыслей - специальный аппарат
записывает всё, потом расшифровывает и печатает для клинического
освидетельствования протекающих процессов. Может быть,
теперь как раз и идёт фиксация моего сознания? Так в таком случае -
привет вам, многомудрые ученые с того берега мрака и бездны!..
Знаете вы, что никаким
движением я не могу дать вам
знать, что не просто лежу чурбак-чурбаком и перевариваю вводимые в меня
препараты, но и продолжаю в меру сил своих ничтожных мыслить! Никак не могу!
И если вы не пишете, если не додумались еще до такой аппаратуры, если ваши
железки, и иголки бессмысленны, то…
Впрочем, о чем это я опять? Какие приборы, какие железки, какие
контакты? Нет, ничего нет по ту
сторону кроме одной ласковой и теплой ладони.
Неужели не ясно, что,
если бы удалось им расшифровать поток моего сознания – если бы дошло до
этого, то уж наверняка уровня
знаний с их стороны хватило бы на то, чтобы и ко мне пробиться не только
поглаживанием – смогли бы ввести мне что-нибудь такое, что я стал бы их
слышать и понимать… Нашли бы дорожку, проложили бы тропинку, достучалась бы
до островка, которому нет страшнее сознания - что замкнутое пространство
раздавит, задушит, поглотит многослойной своей гудящей пустотою...
Спасительная мечта о контакте лучше всяких
уколов поддерживает желание жить и выжить... Если впереди угадывается
хоть какой-нибудь, пусть самый смутный лучик света - стоит жить... Ничего
смешнее, чем слово жить в моем положении и быть-то не может. Я лишен
возможности даже прервать своё так сказать существование, и потому сознавая
нелепость ситуации, должен считать, что живу - такой, как есть, как
остался, как случился - без рук, без ног, слепой, глухой и немой.
Парадокс природы - думающий обрубок. Сколько оно продолжается, сколько будет
еще продолжаться - не ведаю, потому что для меня так было всегда. А ведь
где-то начинается моя память, моё самосознание? Всему есть начало, как
у всего должен быть и конец, это ясно. Но что между этими двумя
берегами? Где?.. Я достаточно отчетливо и рельефно чувствую мягко мне или
твёрдо, холодно или жарко, мокро или сухо, особенно остро воспринимаю любое
прикосновение, даже шустрые лапки пробегающих
по мне насекомых мне говорят о многом, не упоминая уже о том, что
человеческая теплая ладонь, в любом её прикосновении для меня - жизнь,
смысл, радость... В пасмурных туманных вялых клубах
провалов отчаяния и пустоты, мрака и скорби ясными прочными островами
– прикосновения, дарующие надежду, что руки пробьют
черноту, раздвинут густую темень, найдут путь ко мне. Как просто -
жить надеждой, когда ничего другого не остается, кроме как
жить надеждой. Весь парадокс в том, что я уже и не думать-то не могу,
как не могу отторгать прикосновения; от меня ничего не зависит, -
удел – всего лишь только ждать. А зачем ждать? Чего ждать? Не знаю...
Надежда не спрашивает и не дает ответа - она просто поселяется и завладевает
душою, как болезнь, как сон. Она мучительна, но это единственное, что у меня
есть... Я догадываюсь, что там,
за чернотою, в нормальном мире, нормальные "целые" люди часто
устраиваются в жизни, обманывая себя и других невероятными, несбыточными
надеждами, ставя перед собою несбыточные цели, поклоняясь несуществующим
кумирам. Нет ничего более опустошающего в жизни сообщества людей, чем
подмена реальных целей идеалами несуществующего потустороннего светлого
будущего, чем вбивание в сознание вместо самостоятельности мышления -
слепого идолопоклонства. Откуда я это знаю? Я сам прошел через всё это - ибо
каждый отдельный человек являет собою крохотную модель всего человечества, с
его болями и страданиями, заблуждениями и победами. Я и мне подобные могли
бы многое рассказать т
о м у миру о правде, о
смысле жизни, наконец. Если люди могут воздвигнуть гигантский фетиш, как
символ веры и, согретые призрачным светом идеального общества, терпеть все
трудности настоящего, жить по инерции в грязи и грехах, покорно неся груз
обязанностей, механически продлевая род, передавая заветы служения идее
всё новым и новым поколениям, так и не раскрыв глаза на происходящее,
- то мне, лишенному единственной гуманной возможности
покончить с собою,
лишенному надежды на смерть,
как избавлению от
мучений,
приходится надеяться на жизнь
Разума, верить, что когда-то что-то переменится... Мне порою до слез жаль
тех людей, что принуждены ухаживать за мною. Только я не знаю слез, - лишь
туманится сознание от жалости. Ведь если
ими движет не
чисто научный интерес, не стремление познать новое и преодолеть
стену, нас разделяющего мрака, а так называемое "человеколюбие", - а точнее
обрубколюбие, - то ведь это страшно,
это катастрофа. Да, я не умею сказать, где я, не ориентируюсь в
пространстве и времени, какое
время года нынче, даже просто какой именно по счету год на дворе, - не знаю,
не отдаю себе отчета и в каком я положении в смысле географическом - то
есть, временные и пространственные характеристики мне неподвластны,
недоступны. Это так. Но сил моего сознания достаточно, хватает отрывочной
эмбриональной памяти заложенной в подкорку – чтобы суметь увидеть себя со
стороны: то есть, представить, минуя вырастающие порой до невероятной длины,
зудящие ладонями, руки,
чещущиеся невесомые ноги,
которых нет, никогда не было и не может быть,-
туго затянутый плотной материей и обвитый разнообразными трубочками,
проводами и датчиками бесформенный кусок мяса, нелепый, беспомощный и
страшный, в котором каким-то
чудом притаилась бесполая жизнь, жизнь, как простое функционирование
мозга. Жуткое, должно быть, зрелище, особенно
для непривычного глаза. А тем более в сравнении с находящимися рядом
н о р м а л ь н ы м и человеческими
телами. Наверное, и та единственная ладонь, постоянно являющаяся мне
заботливая и теплая, лишь по принуждению терпит этот чудовищный вид.
Господи, каково ей-то! И за что? Допускаю, что уже не один раз этот человек
проклинал свою горькую судьбу и меня, вернее то, что от
меня осталось, и что продолжает почему-то жить, он клял этот островок
непонятной и ненужной ему жизни и клял свою судьбу за то, что не имеет права
оборвать эту никчемную жизнь. Как он, бедный человек,
похож в этом на меня. Тоже не может. Как мы все, оказывается, похожи,
мы скованы одной цепью - единой жизнью, которая гласно и невыразимо диктует
нам свои законы. А может быть и
не страх давлеет над этим человеком, может быть, не боится он запретов
и ограничений, ответственности за нарушение - подумаешь,- оно
умерло во время ночного кризиса?! – может быть это просто добрый
человек? Добрая ладонь... Знает ли она, чувствует ля, что и я жалею её,
когда движением головы отвечаю на прикосновение, жалею и прошу простить за
ужасное неравенство пролегшее между нами. Как бы я хотел, чтобы она
почувствовала это, мне было бы не так больно,
если бы удалось передать ладони хоть крохотную часть мыслей и чувств
моих... Но как?... Довольно часто приходит ко мне благостное забытьё - я
проваливаюсь в пелену сладкую и бездонную, отключаюсь. Случается, что будто
выходит из строя некий переключатель - я долго не могу сдвинуться в
размышлениях своих с места - и всё думаю об одном и том же, думаю, повторяю,
прокручиваю перед собою раз за разом одну и ту же куцую мысль - до
бесконечности, словно в
застывшей фазе движения. Это так утомляет, что вновь
возвращаются мысли о смерти. Но потом приходится заставлять себя и
этот участочек осмысления собственного положения вспоминать насильно -
потому что ничего другого не остается – и только непременным насилием над
собственной леностью можно заставить себя не потерять
контроль над течением жизни.
Чтобы поддерживать мозг в рабочем состоянии, чтобы заставлять его работать
мне приходится по несколько раз подхлёстывать его, проделывать значительную
подготовительную работу: повторять, повторять, как заклинание: "янестудень,
янестудеяь, янестудень!"
Слова неразделимы в сознании, они слиты в единый поток: "Я не студень! Я
должен! Должен! Должен! Я должен думать!”
Вот только после такой значительной подготовки, или
уговаривания, мне удаётся раскочегарить сознание - порою за это
зацепляется какая-нибудь мысль, с которой уже можно начинать, как клубок
разворачивать неторопливое освоение новых территорий черноты... Тут главное
не задать себе параллельно предательского, парализующего вопроса, не
допустить его во владения. Если всплывёт рядом с "Должен" коварное "Зачем" -
всё может обернуться продолжением затмения, новой волною отчаяния и
истерики. Обычно мне удаётся миновать предательскую западню после
прикосновения ладони - она словно чувствует, когда надо появиться - и мне
легче всего принять явления
её за понимание - там уже сам собой отпадает вопрос о ненужности, о
нецелесообразности. Там начинается диалог, контакт, общение. Как отрадно
отметить малейшее изменение в поведении или состоянии ладони, попытаться
замеченную эту перемену определить, передать. За любую подобную малость я
цепляюсь с радостью - утопающий за соломинку - банальная метафора, - начинаю
вытягивать возможные и невозможные еще более мелкие подробности, причины,
связи, - нагромождаю возможно больше, для того, чтобы было, что разгребать,
что вспоминать, что обдумывать, смакуя, чтобы можно было продлить иллюзию
жизни. Там уже и ладонь
исчезает, растворяется в пространстве, а я не замечаю,
погружаясь всё дальше и дальше в переплетения мыслей. Иногда озаряет
меня неожиданное - а что, если я всего-навсего искусственный мозг? Поэтому у
меня - ввиду понятных дефектов сознания - недостаточно широкий диапазон
памяти, программа импульсов ограничена и восприятие мира такое осколочное.
Так можно объяснить, во всяком случае, то что я, погруженный в абсолютный
мрак, не имею никакого представления об окружающей действительности -
создателям моим не хватило технической оснащенности, чтобы вложить больше,
чем они сумели, и они обрекли
меня на совершенную изоляцию. Я не представляю даже, как я мог до такого
додуматься, но что-то же мне подсказало и такое направление мыслей...
Ладонь? Я и ей придумывал самые
невероятные объяснения как для специального технического устройства,
блока контактов и памяти, узла сенсорного обучения. Были и
такие мысли, что ж поделаешь. Иногда я додумывался до того,
что все происходящее со мною - всего лишь сон. И непременно настанет
час - я проснусь и всё прекратится, начнется новое - вот только каким оно
будет, я представить себе не умею. А если это сон другого человека - то
есть, если меня видят во сне, вот такое кошмарное явилось вдруг кому-то
сновидение - то я и вовсе несказанно счастлив, как тень, как дуновение
воздуха - невесом и независим. Только вот, что будет со мною, если тот, кому
это снится, проснется? И почему
так затянулся его кошмар? И на смену таким парадоксальным идеям непременно
приходит утешительное - как ни крути, а мне всё же повезло - раз я - как бы
там ни было - ж и в о й...
Это самые страшные и самые трудные мысли – после которых я обязательно
впадаю в долгую темноту и пустоту. Вот так мне повезло…
Если бы на моем странном месте оказался мозг гения, он вероятно бы
"взорвался", он убил бы себя как-нибудь, потому что его основная функция -
создание нового, преобразование мира, открытие неведомого была бы у него
отнята, надёжно отсечена абсолютным безмолвием. Что проку от
открытия, затаившегося в
глубинах сознания, если оно - открытие - не может быть
обнародовано, предъявлено, использовано? Есть оно? Существует? Как
его оценивать? Где тот магический луч, который высветит мрак зависимости?
Впрочем, если человек не видит и не ощущает на вкус законов к примеру,
механики - это же вовсе не означает, что их нет, что
они не действуют. Есть! Может
быть, точно так же и мысль человека, даже невыраженная в знаке или слове -
где-то и кем-то воспринимается, существует, живет, плодоносит. Как доказать
это? Или хотя бы обратное? Есть мысль невысказанная? Или её нет, как и не
было никогда в природе? Если это так, если это правда, то значит и меня нет,
не существую я и никогда
не существовал в этом мире, значит, я нечеловек.
Янечеловек, янечеловек... Она... Она...
Кажется, прошло... И всё же меня не покидает надежда, что окружившие мою
голову металлические щупы я зажимы являются новой попыткой наладить контакт
со мною, кем бы или чем бы я ни был, кем бы я им не казался.
А может быть я старательно думаю об этом только потому, что очень
хочу? Или нет, я думаю об этом и хочу только потому - что такова моя
программа, и я должен так думать и этого хотеть. Эксперимент продолжается.
Человеку свойственно спешить и надежду свою выдавать за реальность, за
осуществленное. Он живет самообманом, он тешится им. Пусть. Как бы там ни
было, не мне решать, - лишенный зрения, слуха, обоняния и памяти,
функционирующий самостоятельно мозг - человек или нет? И важно ли то, что
способность его оформлять мысли в слова никем пока не зафиксирована, что
никто не слышит его? Это ли самое главное для решения вопроса?
А может быть и никогда никто не услышит слов - что ж из того? Может ли
кто-либо на этом основании доказать, что этот мозг мертв, что он
бездействует? Да, в словах, рожденных сплошным мраком заточения, трудно
предполагать найти открытия,
откровения или нечто новое, самостоятельное как художественное целое,
разумеется, ничего большего, нежели сумбурный набор
слов. Но и он может быть
интересен для... Опять? Стоит ли мне продолжать? Будь у меня руки, я бы ими
работал даже в полной слепоте – смог бы научиться, как все что-то
производить, оправдывая свое существование, для этого и думать-то не
особенно нужно. Но тогда я смог бы теми же руками бороться с НИМИ, если бы
решил, что они не имеют права без моего согласия поддерживать во мне
жизнь, вводить в меня питательные вещества... Но нет рук… Мне нечем бороться
и не с кем. Я никому и ничего не могу запретить...
Даже себе самому...
Ловушка... И всё же мне кажется, что новые крепкие зажимы не просто так -
это новая надежда. Приведет ли она к чему-то?..
Достучатся ли до меня,
преодолеют ли толщу мрака? Смогут ли, наконец, понять меня?..
А я их?.. Вот опять я чувствую приближение ладони... Сейчас они опять
начнут… Или?..
*


Небо висело низкое, серое,
тяжелое, набрякшее, словно потолок погреба, в бурых разводах стылого заката.
Город кутался
в темноту своих узких улиц, чтобы поскорее уснуть и забыться.
Глупая собака выла на
одинокий желтый электрический фонарь, потому что луны давно уже не было. Я,
наконец, нашел человека, которого искал два года.
Я нашел Мишу Кренцеля,
бывшего со мной в аду, спасшего нас всех и оставшегося в живых.
Привратница учреждения, рыхлая баба с зелеными
петлицами на узкой шинели, спала в лоснящемся кресле. Короткие мясистые
пальцы ее руки с перетяжками складок часто дергались. Привратнице снилось,
как она лепит вторую сотню пельменей для встречи мужа. Я прошел неслышно,
чтобы не потревожить ее праздника. Каждая ступенька приближала меня к
встрече, каждая ступенька напоминала мне о пережитом, о пройденном, о
тысячах дорог, которые привели меня сюда. Сердце металось в груди, к ногам
цеплялись пуды усталости.
Душистый расцветал июль. Прели травы. Звонкими вечерами падали звезды,
напоминая о детстве. Пахло морем, мокрыми скалами, водорослями. В теплой
земле были вырыты землянки, но спали мы все сверху, укрывшись небом,
подстелив ладони. И ухо слышало в траве ночную жизнь, кто-то полз, кто-то
шуршал, кто-то прокапывал себе тайную дорожку. Миша сокрушался, что нельзя
разводить костер и пел свою бесконечную песню. Он лежал на спине, заложив
руки под голову, и в широко распахнутых глазах его отражалось всё небо. В
землянке он оставил гармонь и фотографию Сони, девушки, про которую пел свои
звонкие песни, по которой изнывала его крепкая грудь.
Фотографию, которая через десять минут исчезнет навсегда сожженная
прямым попаданием артиллерийского снаряда. Никто из нас не знал, что
отмеряно уже судьбою ровно десять минут блаженства этой тихой июльской ночи,
блаженства с названием жизнь. Самые душевные, самые покойные сны снились в
эти минуты тем, кто уснул, самые родные и желанные лица виделись тем, кто
смотрел в небо и вздыхал на сухой пахучей траве. Железное дуло с уходящей
вглубь винтовой нарезкой тускло отражало звезды и поднималось, целясь в
фотографию Сони. Дальше всё происходило так: земля подпрыгнула и застонала,
огонь вырос, заорал нечеловеческим криком и побежал по солдатским телам.
Следующие взрывы были беззвучные, как толчки. Красноватые тряпки
упали там, где лежали счастливые люди. Миша встал первый с оружием,
без ремня и без сапог, он размахивал руками и бежал в сторону моря. Стена
оранжевого огня выросла перед ним, схватила его своими руками. Миша
скрючился и легко упал на трясущуюся землю, на нем горела одежда и волосы.
Из трёхсот человек нас он один сумел встать навстречу огню. У него сгорели
глаза и лицо, ноги его были оторваны. Миша Кренцель певец и плясун был
расстрелян за то, что душистой июльской ночью пел песню и тосковал о любимой
девушке Соне. Я один видел его смерть, и я постановил найти его во что бы то
ни стало. Две минуты продолжался ад. И ночь переродилась, всё умерло. Две
минуты больше тысяч жизней. Шипело в темноте мясо, умирали сны, трава, как
пепел осыпала раны. И где-то в темноте ночной устало опускалось раскаленное
дуло с винтовой нарезкой уходящей вглубь. Всё кончилось легко, как во сне.
Ступени рабски отступали назад, усталость осыпалась, как дорожная пыль.
Прямо на лестничной площадке под коридорным окном
на низком брезентовом стульчике я увидел сидящего Мишу Кренцеля.
Огромной иглой он сшивал две ременные тесьмы. Миша был слеп, штанины брюк
его были пусты. Сильные пальцы на ощупь ловко делали своё дело. Я
приблизился к Мише, я чувствовал, что плачу, я так долго шел к нему, я так
горячо хотел рассказать о нашей победе, о том, что тот полуостровок назван в
честь него Певучим, о том, что
на месте наших землянок растут полевые цветы, которые дарят
любимым в час свидания, о том, что там готовятся поставить памятник
во славу нашей июльской ночи. Я не знал, что Миша не слышит. Я не знал, что
он не услышит моего рассказа, моей клятвы. Я не знал,
что он не сможет мне ничего рассказать из того, что знает, из того,
что помнит - Миша всё потерял за две минуты той огненной ночью.
Я плакал,
стоя в призрачном свете коридорного окна на лестничной площадке. И мой плач
разбудил рыхлую привратницу в узкой шинели с зелеными петлицами.
Единственное, что я мог сделать - это сжать крепко-крепко Мишину коричневую
руку. Одним пожатием не скажешь всего, не объяснишь, не выразишь. Миша
как-то криво дернулся и стал показывать мне две ременные тесьмы, которые еще
не были закончены. Он, наверное, подумал, что я проверяю его работу. Никак и
ничего не мог я объяснить ему. Я просто продолжал сжимать его ладонь. Пока
не стал он вырываться. Открылась дверь и выглянул весь в сером лысый человек
и улыбнулся странною беззубою улыбкой. За ним увидел я в бетонном помещении
сидящих в ряд над низкими машинками людей. Они на ощупь шили что-то. Все они
были слепы. Четверых из них узнал я - с ними
я укрывался небом на полуостровке Поющем июльской звёздной ночью. Они
сшивали длинные матерчатые полосы грубыми иголками. Педали машин были
привязаны к войлочным тапочкам.
Привратница взяла меня за локоть холодными пальцами, давая понять, что
время истекло.
Корчилась
в предчувствии грозы продрогшая ночь. Стихла собака. Остыли и высохли на
щеках мои слезы.
Мостовая притягивала мои
подошвы. Я столько прошел дорог, я столько видел смертей.
Теперь я остановился
посреди площади - мне некуда больше идти.
Я видел самое страшное - я
видел, как умирает надежда.
Что-то скрипнуло в измученной темноте.
Ветер
запутался в голых ветвях.
И повисла тишина.
*

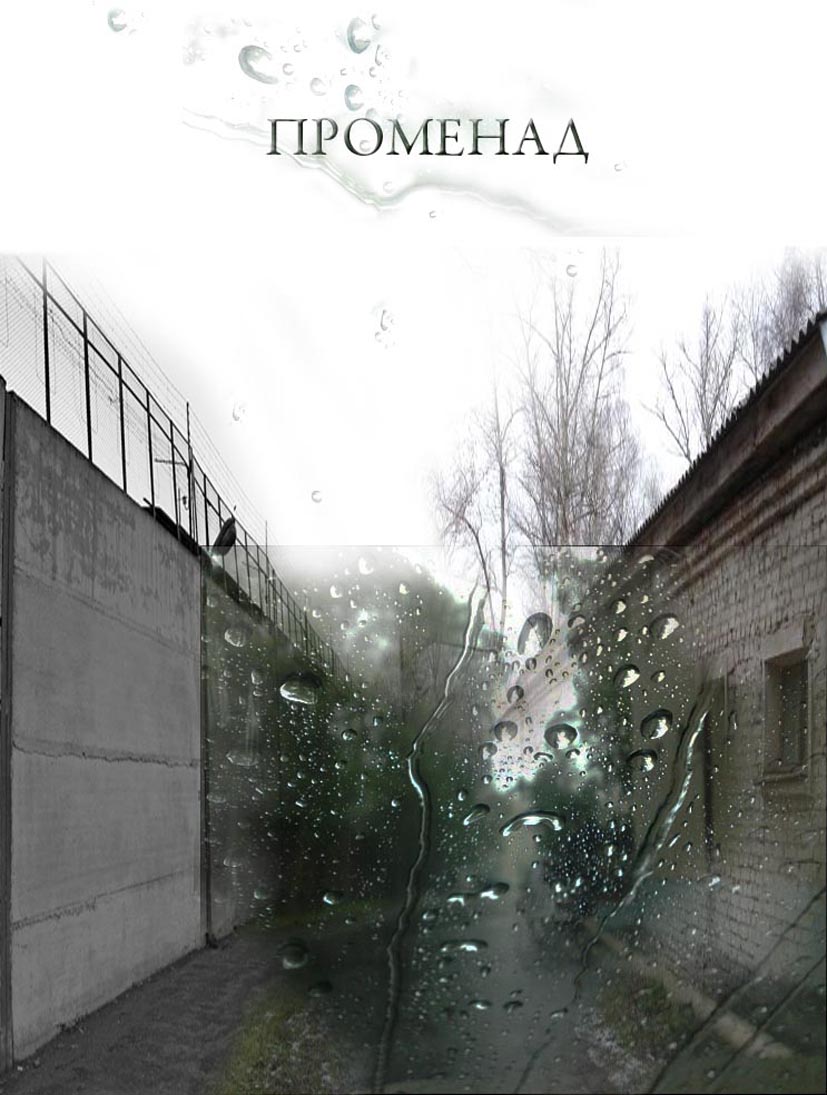
Решетки на оконных проемах. Якобы для нашей безопасности. Это так только
называется, потому что главная цель - не дать нам выйти наружу. Потому что
если мы все вдруг выйдем наружу, то станет очевидной несостоятельность тех,
кто называет себя
нормальными и пытается лечить нас. Выражаться членораздельно, мыслить
логически – это привилегия лечащего персонала. Нам же остается ежевечернее
принимать какие-то их дурацкие пилюли, давать вводить в себя внутриполостно
или внутривенно какие-то препараты и разыгрывать на радость этих идиотов
буйное помешательство. Через решетки все видно. Если не думать о том, что
окна наши перечерчены металлическими прутами, то получится вполне приемлемое
жилье. Терпимое во всяком случае. Вот опять под окнами кто-то ходит. Хорошо
видно над высоким зеленым забором сквозь сеть колючей проволоки. Двое в
городских одеждах, не в пижамах и не в белых халатах. Они осторожно
посматривают поверх заграждения, в их взглядах можно без труда почесть страх
и любопытство.
По-видимому,
именно любопытство и привело их сюда, этих двоих. Они могли от
кого-то,- от своего товарища или просто случайного знакомого какого-нибудь -
услышать рассказ об интересных и загадочных явлениях происходящих здесь, о
том, что некоторые лечащиеся имеют право гулять без сопровождения по двору и
с ними можно поговорить совершенно спокойно, вторгнуться, в их, так сказать
внутренний мир, мир особой сложной конституции. Если они пришли сюда из
любопытства, значит их влечет сложность человеческой натуры, значит они люди
увлеченные, и если их любопытство не праздное то деятельность их непременно
связана каким-то образом с творчеством, или гнездится где-то рядом. В
уголках исследовательских. Аналитических, преобразующих сфер. Это не
чиновники и не инженер. Если же они оказались в этих местах случайно. Каким
образом здесь, на отшибе можно оказаться случайно? Никаким. По очень
специальному маршруту сюда, зная топографию и приметы местности, нужно
добираться специальным транспортом.
Как минимум нужно для начала иметь какую-то вполне определенную цель.
Но возможно еще и дело какое-нибудь привело их сюда. Допустим, забрать
какого-нибудь умершего родственника. Нет,
не похоже. Приехавшие за
покойником не станут ходить вокруг отделения реадаптации и с таким интересом
бросать взгляды поверх колючей проволоки, надеясь в зарешеченных окнах
встретить что-нибудь особенное. Это гости. А раз так, надо постараться
доставить им хотя бы какое-то развлечение, чтобы они не
разочаровывались и не расстраивались, что зря съездили в такую даль.
Они так безыскусно делают вид, что случайно оказались у этого забора, что
даже смешно. Сейчас они остановятся у того толстого дерева и будут о чем-то
тихонько переговариваться, совсем не обращая внимания на наши окна. Потом
закурят и присядут на ту зеленую скамейку, чтобы можно было незаметно из-под
темных очков наблюдать за нами, впитывать в себя
новую информацию, своеобразные острые ощущения. Мысль о том что там
за решеткой и за колючей проволокой под постоянным наблюдением четырех
милиционеров живут люди, щекочет им нервы и возбуждает фантазию. Их мысли
стараются проникнуть сквозь ограждения, но недостаток информации не пускает
дальше решеток. В поисках этой именно информации они и пришли сюда. Им
кажется важной любая самая
незначительная деталь. Вот мелькнула в окне чья-то тень,- как вскинулись,
как напряглись их лица. Вот из глубины строения раздался протяжный хриплый
голос - это кричит кто-то в
коридоре,- как они прислушиваются, как они переговариваются. Обмениваются
соображениями, представляя, наверное, камеру пыток, дыбу, дюжего
краснорожего потного милиционера выламывающего пальцы хилому пациенту, рот
которого раздирается в крике. Как они зашевелились, как заерзали - эк,
играет в них фантазия. Да, нельзя разочаровывать людей с
такой тонкой психикой. Им надо давать постоянно пищу в виде эмоций,
иначе они начнут придумывать и сочинять больше, чем увидят на самом деле.
Хотя, может быть это и есть их скрытая цель: получить лишь некий едва
заметный намек, импульс, толчок к размышлениям.
Чтобы на ничтожной крупинке малозначительной детали построить целый
дворец своих представлений и предположений. И не столько им важно
разобраться в сути события или явления и вскрыть их причины, сколько хочется
разбудить свою фантазию увиденным воочию. Так, давно замечено, что гораздо
интереснее и привлекательнее наблюдать за женщиной едва раздетой, чем за
полностью обнаженной. Мысль сама должна достраивать скрываемое, от этого
процесс открытия становится гораздо интереснее и острее. Итак, что же им
преподнести? Дурацкий крик они уже слышали. Наверное, где-то в глубине души
они надеются пообщаться с кем-нибудь из нас. Раньше их здесь никогда не
бывало, а значит и в самом деле им будет интересно узнать что-нибудь
новенькое. Может быть так:
- Аааааа! Сан-Франциско - город мертвых! 18-125 дробь семь! У
акулы синий нос. Восемь, дробь четырнадцать по улице Салтыкова-Щедрина.
Карпиндикс варинписен, сирапикза - ууу! Ааа-ааа!..
Нет, это было бы слишком сложно для первого раза. А скорее всего они просто
ничего не поняли ли бы. Умные глаза у того, в голубой рубашке. Как приятно
иногда видеть умные глаза. Да. Этот явно был бы сначала ошарашен столь
откровенным сдвигом, подумал бы, что это вызывающе прямое свидетельство
действительной необходимости применять строгие методы для излечения тяжелых
психических недугов. Однако со временем он постепенно в себе обнаружил бы
сомнения, запавшие в пытливую его память -
не может быть, чтобы так логично чередовались явные вербальные
идиотизмы. Это надо придумать, вычислить. А раз так то совершенно непонятно
почему тот за решеткой, а не я. Он может быть и не станет так думать, но
тень подозрения останется. А это плохо. Нужно оставить именно тонкий запах
подлинности: чтобы переплелось у него в сознании всё, и не до конца понятное
название отделения - что такое к примеру реадаптация? - и мрачный высоченный
забор вокруг кирпичного корпуса с милицейскими вышками, и эти хриплые крики
и бледные руки на решетке. Он пришел
именно за этим. Смотрит и понимает
разницу между собой и теми, кто лишен возможности выйти на свободу, кого
стерегут. Он впитывает это необычное, сравнивает с привычным своим
повседневным окружением и делает выводы. Мы стоим втроем у окна и смотрим на
тех двоих внизу. Мы молчим и они молчат. Мы тихонько переговариваемся между
собой и они что-то шепчут друг другу. А между нами высокая стена, увенчанная
метровой ширины надстройкой из колючей проволоки. И вот в застекленной будке
на уровне проволоки появляется еще одна преграда - постовой милиционер. Он
внимательно обводит взглядом прилегающую к его рабочему месту территорию и
останавливает свой
дебильный взгляд на сидящих там за забором. Нас он не видит, ему
мешает выступ стены. А мы его видим и по длинной изломанной тени, упавшей с
лестницы и распластанной на
стене. Тень замерла. Эта синяя ломкая тень имеет право стрелять без
предупреждения по любому из нас,
если кто-то вздумает перелезть через забор. Она имеет право не допускать
даже близко к забору любого из граждан появившихся возле него. Она может
принимать решения и вершить судьбами. А почему?
Потому что в маленькой кожаной кобуре у нее на боку висит тяжелый
металлический предмет с маленькой черненькой дырочкой в самой середине
ствола. Эта черная дырочка - самая большая преграда для общения между
людьми. Мы продолжаем стоять втроем у зарешеченного окна.
Те двое на скамейке чувствуют себя явно неуютно под
пристальным взглядом тени.
Они не знают чего можно от нее ждать, и эта неопределенность их нервирует
более всего. Они не смогут выдержать долго, потому что охранник будет стоять
теперь всё время, до самого их ухода. Они уйдут непременно. Это неизбежно.
Из-под этого забора все всегда уходят куда-то. Мы опять останемся. Да, вот
они встали, делают вид, что уже время подошло такое, что им пора вставать,
смотрят на часы. Нет ничего более грустного, чем неумелая игра с длинной
изломанной на заборе тенью.
Уходят.
Должны на прощание
оглянуться.
Нет, не поворачиваются.
Может быть, крикнуть им
на прощание что-нибудь хорошее, чтобы
приходили они еще. Нет, не стоит, они
больше не придут. Они станут рассказывать знакомым, что побывали там
у большой стены, что повидали там
такой ужас, что в них чуть ли не
стрелял вооруженный до зубов охранник - отставной спецназовец. Не стоит им
мешать жить той их простой озабоченной жизнью. Жизнью за забором. У нас
разные пути-дороги, они никогда не пересекутся, не встретятся, так как между
нами большая зеленая стена, поверх которой натянута в несколько рядов
колючая проволока.
Опять пусто в окне.
И все перечеркнуто белыми
металлическими прутьями.
Приближается время процедур.
*


Болела голова.
За окнами мутный воздух колыхался и медленно оседал, становился черными
точками на тротуаре - это суетились пешеходы, маленькие человечки.
От дыхания тюлевая занавеска шевелилась. Было холодно и стекло по углам
замерзло, напоминая тонкие весенние льдинки. Человечки внизу скользили по
тротуару, иногда падали.
От этого еще больше болела голова.
Было скучно.
Я отошел от окна, сел в свое любимое, единственное, кресло.
Закрыл глаза и стал придумывать рассказ.
Любимое занятие в любимом кресле. Почти идиллия.
Если бы не было так холодно, и если бы так не хотелось есть, и если бы не
было лень сходить купить себе что-то, и если бы было на что купить это
что-то...
Я сидел с закрытыми глазами.
Сначала почему-то представлялись падающие человечки. Они падали медленно,
поднимались и снова падали, а я стоял на балконе своего четырнадцатого этажа
и смотрел на них. Смотрел и не мог ничем помочь. Наверное, им и не нужно
помогать, - когда человек сам умеет встать на ноги - это же замечательно.
Так вырисовывалась идейная платформа будущей вещи.
Я не мог не усмехнуться - я начинаю с идейной платформы. Могу себе
представить, что на это было бы сказано, допустим, тем же самым Целоваловым.
Он бы оттопырил свои губы и два раза причмокнул: " Старик, ты понимаешь,
что-то в этом есть порочное, ну как бы тебе объяснить, чтобы ты понял...
Видишь ли... Когда ты мне тычешь свои убеждения и пытаешься доказать, что
они твои, что они искренни, ты тем самым тут же раскрываешься и продаешь
свой мизерный секрет - ты заигрываешь, только бы тебя читали, только бы
напечатали, хотя на самом деле никакой идейной платформы у тебя нет и быть
не может. Не так ли?.."
Я терпеть не могу эти его "не так ли", но ничего поделать не могу, не
смею...
Он Целовалов и с этим нельзя не считаться.
Хотя я и понимаю прекрасно, что считаться со всякой мразью только потому,
что она толще, устроилась, вовремя кому следует вылизала все, что надо - это
гадко, это недостойно, это стыдно, это...
Нет, так, вероятнее всего, рассказ примет дурной оборот. А это никуда не
годится. Мне сейчас нужен именно такой, чтобы устроил человека вроде
Целовалова.
Оттого-то он и возник у меня перед глазами, что воплотился вдруг в моем
сознании мир человеческих взаимоотношений, так неудачно воплотился, но что
же я могу поделать...
Мир человеческих взаимоотношений, сложный и необъяснимый. Сколько раз я
сталкивался с полным непониманием его, с полной его чужеродностью. Я не могу
преодолеть гравитацию человеческой глупости или грубости, мне гораздо
приятнее быть одному.
Холодно, скучно, болит голова, но это все много приятнее общения с теми,
кого я знаю.
Eщe
одна сторона - я сижу дома один, и поэтому имею возможность общаться с теми,
кого выбираю, с теми, кого захочу увидеть. А не с теми, кого подсовывает мне
судьба.
Вот сейчас мне стал противен Целовалов, и я с улыбкой
подхожу к нему смотрю прямо в его стеклянные, самодовольные глаза, - в них
нет ничего, нет полагающегося всякому млекопитающемуся пигмента радужки, нет
глубины загадочной зрачка, даже элементарного страха смерти в них нет.
Жабьи, одним словом, ординарно болотные глаза.
Я подхожу к нему так близко, что ближе уже нельзя, и
так вплотную стоять вдвоем невозможно, кто-то должен уступить. Уступал
обычно я. Теперь же я продолжаю улыбаться и резким движением отталкиваю
Целовалова.
Могу себе позволить.
Он делается маленьким и скучным.
Он незаметно вылетает в окно и превращается в черную
точку на тротуаре внизу под моим домом - он поскользнулся и упал.
Группа молодежи, собравшаяся у телефонной будки,
заметила это, затряслась от смеха.
Падение Целовалова -это смешно. Длинная фигура смешно,
как в кукольном спектакле, переламывается надвое, ноги улетают вперед, руки
взмахивают вверх, и острый зад шлепается на затоптанный лед. При этом голова
неестественно заламывается, словно позвоночник полностью гуттаперчевый, губы
дергаются и глаза, вылезшие из орбит, начинают вращаться, суетиться, бегать
– не видел ли кто? Поломанный Целовалов не думает о том, что ему больно, что
он бесформен - он смотрит не видел ли кто-нибудь его падения.
В этом весь мелочный, лицемерный Целовалов.
Он упал.
Я расправился с ним.
Он стал таким же, как и многие рядом.
Я смотрю на него с высоты четырнадцатого этажа и не
замечаю его спеси, его напыщенности, его жабьих глаз. Победа...
Но мне мало этого для того, чтобы сказать себе
короткое слово "есть"!
Я продолжаю сидеть в любимом кресле.
Рассказа нет.
Все начинается сначала.
Только теперь я не увижу Целовалова, я стану искать в
себе кого-то другого.
Кто мне ближе?..
В прихожей раздается звонок, отвлекает меня от мыслей.
Знаю, что сейчас придется вставать, с кем-то разговаривать.
Возможно, это пришли из
домоуправления, снова будут предупреждать меня о своевременной уплате за
квартиру. Будет стоять передо мною такая себе плюгавенькая тетенька с ярко
накрашенными губами и снисходительно смотреть на мои короткие штаны, на мой
затасканный свитер. Она будет права, я знаю это. Я буду улыбаться и уверять
ее, что непременно заплачу сразу же, как только получу за рассказ деньги. Я
не стану распространяться о том, что рассказа
eщe
нет и не известно, когда он будет, и вообще появится ли он. Только я один
знаю, что он должен появиться, я жду его. Больше он никому не нужен. А может
быть это из редакции? Принесли мне толстую пачку денег за рукопись повести,
пропавшей в прошлом году. Оказалось, что они ее напечатали, только по
рассеянности забыли вовремя сообщить...
Однако настойчивые звонки продолжаются. Надо встать...
Пока я поднимался, звонки превратились в стук. Это же надо иметь столько
упорства и нерастраченной веры, чтобы стучать в дверь столь убедительно. Это
особое искусство коммивояжеров – стучать в цивилизованной стране эпохи
рыночной экономики, стучать там, где специально придуманы и вмонтированы
электрические звонки.
Стук монотонно продолжался и тогда, когда я подошел к
двери. Однако, как только я раскрыл ее, на лестничной площадке наступила
подозрительная тишина.
Серая кнопка моего звонка казалось, еще хранила на
себе тепло грубого пальца, но рядом с ней никого не было. Мокрые следы вели
от лифта непосредственно к моей двери. Прямо под моим носом они обрывались.
Я еще раз провел взглядом по прозрачной цепочке следов
и почувствовал, как в затылке у меня холодеет.
На лестничной площадке было мертвецки пусто.
Чьи-то тапочки стояли в углу, ящик из-под посылки
рядом с ними, и все. И больше ничего и никого. Но кто-то же стучал ко мне...
Я закрыл дверь и почему-то не пошел сразу в комнату. Я
не признавался себе, но я чего-то ожидал. Почему-то связывалось это ожидание
с падениями на тротуаре, будто я был виноват в том, что сегодня на улице
скользко. За дверью, тем не менее, было тихо.
Через отсутствующее матовое стекло я посмотрел на
кухню, и мне снова захотелось есть.
Но правда в том, что еды в доме нет.
Вот такие вот дела.
Кто-то мне помешал. Кто-то вполне квалифицированно
сорвал меня с творческой мысли, когда, вроде, начинало нечто наклевываться.
Я может быть и действительно написал бы что-то. Теперь
все сломалось.
Просто зверски захотелось жрать.
Опыт предыдущих жизней показывает, что вернуться к
работе уже не удастся.
Мысли возвращают меня постоянно в мир шипящих котлет,
сочных розовых бифштексов и удивительно пахучего борща. Да...
Потекли слюнки.
Все, на сегодня хватит, надо пойти что-то от чего-то
откусить, иначе беда.
Вот уже голова начинает кружиться...
Я вошел в комнату и почувствовал, как стало тепло,
ладони предательски вспотели: на моем любимом единственном кресле, в такой
же позе, как только что я, точно также положив на колени не раскрытую книгу
и закрыв глаза, сидел человек. Лицо его было совершенно спокойно и почему-то
казалось знакомым. На ногах были толстые теплые шерстяные носки.
У меня таких не было.
Человек сидел и о чем-то сосредоточенно размышлял.
Я так отчетливо его видел, он был так близко от меня,
что я мог бы при желании его потрогать, но мне больше всего на свете
хотелось сейчас закрыть глаза и, чтобы, когда я их открою, ничего этого не
стало.
Я быстро закрыл глаза.
Старался ни о чем не думать, потому что как только
всплывали обрывки, Фрагменты, осколки кораблекрушения мыслей все сразу
путалось в голове.
Я крепко сжимал веки и высчитывал, еще подождать или
открывать глаза - уже и так произошло то, что должно было произойти, нужно
было только решиться.
Не знаю... мне раньше как-то не
приходилось умирать, я не могу опереться на свой собственный опыт в этом
деле, но чувствую я, что все это происходит именно таким вот образом:
сплелись в один комок желание все знать и страх открыть глаза и
невозможность избежать своей судьбы. Большего парадокса и придумать нельзя,
- как это так, я, ничего не успевший в жизни, и должен ее уже безвозвратно
покинуть!
Куда и зачем и почему?
Что-то зловещее, молчаливое и огромное представляется
мне. Что же там за этим барьером незнания? Как преодолеть мне его, мне
слабому и маленькому, как мурашка на тротуаре под балконом?
В русских есть эта черта - я называл её "дернул и под
танк" - очертя голову принимать какие-нибудь невероятные решения: черт с
ним, или пан или пропал! Мне она милее и ближе, чем, допустим, синица в руке
вместо журавля в небе.
Я решился.
Я открыл глаза.
Человек по-прежнему сидел в моем любимом единственном
кресле, сидел совершенно спокойно, так, словно и не произошло ничего, словно
я не думал о бессмертии, словно никто не являлся мне неведомо откуда и каким
образом – и что всего нахальнее – будто бы не стучали абсолютно полицейским
образом в мою дверь только что кулаками.
Я кашлянул кабинетным искусственным кашлем.
Мой гость встрепенулся, широко раскрыл глаза и
удивленно уставился на меня.
- Здравствуйте, - сказал он знакомым
голосом, - проходите. Вы меня извините, я немного задремал. Думал, это мнe
снится, что кто-то стучит в дверь. А это оказывается вы и в самом деле
стучали ...
"Я стучал? Когда? Кому?" - запрыгали у меня в голове
вопросы.
Было почему-то не очень удобно.
Что-то перепуталось после моего вставания.
По смыслу вопроса, а больше по интонации и виду сидящего
в кресле субъекта оказывалось, что это я пришел к незнакомому человеку в
гости, а еще точнее – вторгся в самый неподходящий момент, потревожил его
раздумчивое, а может быть и вовсе творческое уединение.
И самое главное - не знал зачем пришел.
Он ожидающе смотрел на меня, а я не мог ему ничего
сказать. Я тоже смотрел на него и молчал.
- Так, интересно получается... - не выдержал, наконец,
он и заговорил, - что же это теперь со всеми нами будет?
- Да, - промычал я, - интересно...
А в голове бились неуютные мысли: "Боже, какая
глупость, и зачем это я так? Ну почему бы мне просто и понятно с ним не
объясниться. Раз он здесь какими-то путями оказался, значит, он сможет
понять меня, во всяком случае, постарались бы договориться. А так еще больше
парадоксу и туману..."
- Так вы что, не имеете мне ничего сказать? Я полагал,
вы пришли по делу, а вы все стоите и молчите. В моих почему-то тапочках. Я
понимаю, что с сонным человеком можно всякие шутки шутить, но не такие же
глупые. Прямо скажите - не стучали вы в мою дверь только что кулаками?
Я кашлянул как мог деликатнее.
- Здравствуйте, - повторил мужчина
очень знакомым голосом, - проходите. Вы меня извините, я немного задремал.
Думал, мнe
снится, что кто-то стучит в дверь.Показалось, значит.Так вы что, не имеете
мне ничего сказать? Я полагал, вы пришли по делу, а вы все стоите и молчите.
В моих почему-то тапочках. Я понимаю, что с сонным человеком можно всякие
шутки шутить, но не такие же глупые…
Мы оба глядели на мои тапочки. Его ноги в мягких шерстяных носках назойливо
подсказывали мне решение: тапочки нужно отдать. Но на каком основании,
собственно, я должен ему повиноваться? Ведь я-то отлично понимаю, что это
мои тапочки, а не его. Почему же так получается, а? Я задавал себе эти
вопросы, но в то же время замечал, что некая незнакомая сила помимо моей
воли руководит мною, -
и вот я коленопреклоненно снимаю тапочки, благочестиво передаю
ему(как можно благочестивее).
Сам остаюсь в носках. А они у меня не такие мягкие и
не такие шерстяные.
Краешком сознания я улавливал в себе чисто творческий
интерес к происходящему, словно подсматривал со стороны, изучал, следил за
процессом и мне было страшно интересно, чем же это все закончится.
- Извините, если что не так… - промямлил я, пододвинув
тапочки прямо к его ногам.
Он не обратил внимания на мое извинение, спокойно
всунул ноги привычным движением в старые мои нагретые шлепанцы и уже
откровенно осуждающе посмотрел на меня.
- Нет, но может быть вы все-таки объяснитесь? -
ласково, но явно деланно, предложил он мне.
- Нет, нет, ничего, не беспокойтесь, - самым глупейшим
унизительнейшим образом ответил я, и усмотрел во взгляде его плохо
скрываемое сожаление.
- В каком смысле не беспокоиться? - пошел в атаку он.
- Ну, вообще... - слабо оборонялся я и чувствовал, что
начинается важный для нас обоих разговор. К этому я был готов.
- Хорошо, я не буду беспокоиться. Дальше что?
- Дальше? Дальше все будет хорошо. Я спрошу вас: что
вы читаете? А вы мне ответите:
- Я читаю сочинения Ушинского.
- Зачем?
- Интересно. Я стараюсь докопаться до основ его веры в
человека.
- Вы что же, сомневаетесь?
- Да.
- Во всем?
- Почти. Интересно. Скажите, сколько вам лет?
- Это имеет какое-либо значение?
- Да.
- А вы что же, ни в чем не сомневаетесь? И не
сомневались никогда?
- Думаю, что нет людей не сомневающихся.
- Есть.
- Откуда такая уверенность?
- Я знаю, что есть. Я как раз думал об этом в то
время, когда вы стучали в дверь ногами неистово по-полицейски там на
лестничной площадке, весь в снегу с замерзшими руками.
- Вы всегда думаете во сне?
- Я не спал.
- И вы можете доказать то, что существуют люди ни в
чем не сомневающиеся?
- Я не хочу ничего никому доказывать. Я с детства
придерживаюсь правила: если хочешь быть правильно понятым, никогда не
объясняйся. Посмотрите в окно.
Я повиновался его голосу, подошел к тюлевой занавеске.
За окном колыхался мутный холодный воздух. Не то поздние снежинки, не то
чьи-то воспоминания плавали в нем. Внизу чернели маленькие точки - это люди
спешили по тротуарам. У телефонной будки было людно, чувствовалось
определенное замешательство. Там кто-то лежал, а вокруг стояли
вопросительными знаками темно-серые человеки. Непослушной запятой прыгала
собачка. Проехал грязный автобус. Больше ничего интересного не было.
- Ну и что? - спросил я.
- Ничего, - спокойно ответил мне мой гость. - Просто,
если бы вы умели видеть, вы бы заметили сейчас человека, никогда ни в чем не
сомневающегося.
- Серьезно? Где же он?
- Лежит на тротуаре.
- Да? Как интересно...
- Это упал некто Целовалов. Упал и сильно ушибся, но
не это его беспокоит, а то, что свидетелями падения его стали веселые ребята
у телефона-автомата. Он страдает сейчас, Целовалов. Гордыня! Драматический
узел человеческого несовершенства.
- А откуда, собственно, известно, что он не знает
сомнений? Падают и сомневающиеся. Свидетельствует статистика.
- Над такими не смеются, таким помогают первые
встречные. Сомневающиеся, ищущие, молодые, дерзкие, тощие - это основа
человеческого прогресса. Люди же удивительно чутки к представителям
прогресса. Они всегда обласканы вниманием: или увенчаны лаврами или гонимы с
особым пристрастием, - их узнают, на них обращают внимание.
- Не могу не признаться, что слышу странные слова.
- Да, это так. Я сидел, обдумывал рассказ...
- Вот как? А я думал, это я собирался написать
рассказ...
- ... рассказ о прикосновении к вечности.
- Кто же это прикасался?
- Я.
- И успешно?
- Мне мешал сначала Целовалов, он иронизировал над каждой моей фразой,
потом, когда он ушел, стали стучать в дверь и...
- Вы были так близки к Вечности, что если бы не стук,
сумели бы прикоснуться к ней? Как я недавно к спящему лицу?
- Меня интересует прежде всего процесс, а не
результат. Я сомневаюсь в чем-то и мне нужен оппонент. Является Целовалов,
или еще кто-нибудь похожий на него, или я кого-нибудь придумываю для спора,
таким образом я укрепляю себя или переубеждаю.
-
Мне кажется, настала пора заговорить о важном. До сих пор это оставалось
между нами - произошла какая-то путаница, я должен из нее выбраться. Это же
я сидел и придумывал рассказ, я встал, когда позвонили в дверь, а потом
стали стучать. Я. Я вернулся в свою комнату и наткнулся на вопрос: "Зачем вы
пришли". Разве так может быть, хочу я вас спросить.
- Так за чем же вы пришли?
- Нет, я не о том. Это же не я пришел...
- А кто же?
- Как это кто же? Вы же...
- Не понимаю...
- Вот и я не понимаю. Было холодно, я сидел в моем
кресле, я придумывал начало рассказа. Болела голова и качалась от дыхания
тюлевая занавеска. Мне страшно хотелось есть, но теперь почему-то не
хочется. Теперь вот вы сидите в моем кресле, держите мою книгу на коленях и
говорите о моем знакомом Целовалове. И я не могу понять, что же это
происходит.
- Может быть у вас действительно сильно болела голова,
и она продолжает болеть?
- Нет, это не то...
- Может быть вам не стоило начинать представлять себе
падения человечков. Ведь с этого все началось? Может быть стоило сначала
разобраться, что же с вами непосредственно происходит, чтобы не задавать
таких глупых вопросов? Вы решили написать рассказ?
- Да.
- О чем?
- О поисках истины. О смерти и любви.
- Понятно, значит у вас не было рассказа, вы не могли
начать писать потому, что не знали о чем писать собираетесь. Знакомая
картина...
- Вы тоже пишите?
- Нет. Я не пишу.
- Откуда же вам все так хорошо известно?
- Кто жил и мыслил, тот не может не понимать простых вещей. Я не записываю
свои рассказы, повести и романы. Я живу ими. Я проживаю их, как жизнь, как
хороший актер хорошую роль. Это гораздо труднее и гораздо приятнее, чем
высасывать из пальцев многотомные рассуждения на абстрактные темы смерти,
истины. Философы бились в этих застенках вплоть до девятнадцатого века и
потому не могли найти ни одного просвета. Писатели целыми поколениями
низвергались в пучины бесславия и забвения, потому что старались поднять
невозможное, они замахивались на истину. Они хотели пером одолеть ее. Нет.
Это невозможно. Нужно писать о том, что составляет суть тебя, о том, что
жизнь твою делает жизнью, а не прозябанием, нужно писать о том, что волнует
тебя воистину. Только об этом. Будто решается вопрос: сегодня жить, а завтра
умереть, что выберешь ты для последнего признания? На что потратишь
несколько часов последних самых? Так и пиши. И лишь тогда ты сможешь ощутить
на влажной от усталости и слез щеке своей едва заметное прикосновение
судьбы, большой победы, истины, бессмертия. Иначе - как и все, на скользком
тротуаре ты будешь падать маленьким беспомощным и слабым будешь оставаться.
И все, кто не успел, или кто встал уже будут смеяться, будут хохотать, имея
право, на этот смех... Я не написал еще ни одной строки, потому что не был
уверен, не ощущал всей душой своей, что это оно, то самое, что только я могу
сказать и более никто, что это то мое, чего я ждал, то, для чего на этот
свет пришел я, сокровенное, единственное, самое большое. Иначе нет смысла
писать, уподобляясь миллионам. Вступая на заветную стезю, я должен чистым
быть. Иначе - худшая из всех смертей - забвение... Я дорожу подарком мне приподнесенным...
- Но так ведь можно прождать всю жизнь, прождать, не
ощутив в себе до самого конца заветного "ОНО!"
- Можно, наверное. Только у каждого своя судьба. Я
родился для великих целей. Я в этот мир пришел и принял его как подарок. Я
приготовлен для великого совершения. Мне нельзя размениваться на мелочи, мне
нужно выждать. Когда уверен ты, и цель тебе ясна, когда в груди твоей
огромная скопилась сила - такая мизерная плата, ожидание. Не согреши,
дождись единственного часа - и все произойдет, что быть должно, что с самого
начала тебе начертано судьбой, ты обретешь себя, ты заживешь...
- Но кто и когда может быть гарантию, что эти ощущения
предназначенности истины?
- Сомнения одолевают? Это искушение, ниспосланное для
проверки. Да, сомненью подвергают всё, всех и всегда. Но только для того,
чтоб укрепиться в вере.
- А вдруг она ошибочна"?
- Такого быть не может. Не было
eще
на свете дворника, вдруг возмечтавшего о славе полководца или философа.
Каждому свое. На каждом из людей с рождения стоит печать судьбы. Тот будет
справным офицером, дослужится до чина генерала и самоуспокоенный оставит
внукам кучу орденов. Тот просто проживет спокойно жизнь свою, гербарий
собирая трав и листьев. Умрет, как жил, тихонько, незаметно. А этот с
детства жить мешал, он наделен талантом разрушенья, он станет узником и в
подземелье сыром окончит жизнь свою. Этот же, тихо и задумчиво пройдет по
жизни, оставив потрясающей глубины стихи, он и в смерти сохранит святую веру
в бессмертие и с тем исчезнет, волнуя все грядущие поколения своими
пророчествами и откровениями. Судьба написала на каждом из нас. Только не
все умеют читать эти надписи. Правда, сапожнику и не нужно это умение. Он
должен хорошо чинить сапоги. Он живет лишь для того, чтобы обеспечить
удобства другим, тем, что парят над землею и не замечают грязных дел, суеты,
скользких тротуаров, тем, что живут...
- А что же мне написано судьбою?
- Написано, - с больною головою в холодный день в
единственном любимом кресле на четырнадцатом этаже узреть свет истины,
пришедшей в облике сомненья.
- Это ты что ли сомненье?
- Да.
- Сомненье в тапочках и шерстяных носках. Смешно... А
что ж за истина?..
Но мой вопрос остался без ответа. Человек странно
посмотрел на меня, не то улыбаясь, не то испугавшись, прикрылся книгой,
указав пальцем на тюлевую занавеску. Она едва заметно колыхалась, словно
кто-то рядом с ней дышал.
А за окном раздалось странное высокое гудение.
Морозный плотный воздух шевельнулся...
Я посмотрел на кресло. Там никого не было.
Книга моя ничком лежала на полу.
Поднимать ее не хотелось.
Голова была светлой,
боль покинула
её.
*


Стук в дверь.
Человек, сидящий за столом и что-то пишущий, слышит стук, отрывается от
работы, встает, подходит к двери.
Стук тихо повторяется...
Человек открывает дверь. Перед ним оказывается невысокая стройная девушка,
она поднимает глаза, неуверенно улыбается.
- Доброе утро... Вы меня не ждали... А я пришла... Извините, что так рано.
Вы меня помните?
- Да...
- У меня к вам просьба…
Да, Андрей стоял тогда на берегу пруда и бросал в воду
крошки хлеба. Чуть подержавшись на воде, они исчезали схваченные
рыбками.
Недалеко от Андрея, прислонившись спиной к дереву, стояла эта девушка и
грустно смотрела на воду; видела только медленно расходившиеся круги от
играющих рыбок...
Андрей увидел ее глаза и медленно подошел к ней.
- Почему вы такая грустная? - спросил он.
Девушка ничего не ответила, только взглянула с равнодушным
упреком, потом снова отвернулась.
- Вы, наверное, не хотите, чтобы я к вам обращался? Если так, я не стану...
Но вдруг я могу чем-либо помочь вам?.. Или вы мне...
- Что, вам так нужна моя помощь? - не глядя на Андрея, спросила девушка.
- Сейчас нет... Но, возможно, когда-то будет нужна...
- Ну, чем я могу помочь...
- Часто помогает просто взгляд, жест, улыбка чья-нибудь...
Девушка посмотрела на Андрея и улыбнулась.
- Вот видите,- в ответ ей улыбнулся он.
- Странный вы какой-то…
Руки Андрея машинально продолжали разминать хлеб. Девушка что-то хотела
сказать, но Андрей, взглянув на воду, опередил ее:
- Вы не хотите покормить рыб?
- Что? - не расслышала девушка. Андрей повторил свой вопрос.
- А зачем? - удивилась она.
Андрей вспомнил, почему ему показались такими знакомыми эти равнодушные
пустые глаза.
Это было давно.
Соседский дед в пижаме и белой летней шляпе постоянно сидел на балконе и
качался в кресле-качалке. Казалось, что не существовало для него ни времени
дня, ни поры года.
Он непременно был со старою газетою в руках, которую никогда не читал, а
просто маскировался ею, и или бессмысленно смотрел в одну точку, или спал,
размеренно скрипя своим старым креслом.
Верхом разнообразия для этого деда было поздороваться с кем-нибудь из
соседей вышедших на балкон. Тогда он
церемонно приподнимал краешек шляпы и растягивал дряблые щеки наподобие
улыбки. Он хотел, чтобы его спросили о давних временах, тогда бы рассказа
его, всем уже давно известного и надоевшего хватило на несколько часов.
А маленькому Андрею в это время так хотелось попасть из рогатки в шляпу
старика, сбить ее, чтобы тот полез доставать; а в это время
вместе с ребятами покачаться на его
качалке...
Девушка нерешительно остановилась у двери.
- Проходите, пожалуйста,- пригласил ее Андрей.
- Спасибо,- ответила она и улыбнулась.- А что это у вас за симпатичные такие
туфельки стоят?
- Где?
- Ну, там за дверью, у порога...
Андрей вернулся к двери, приоткрыл ее и увидел пару знакомых туфелек.
Познакомился он с ними недавно, когда возвращался домой и на лестнице
столкнулся с молодой женщиной, которая несла что-то громоздкое, завернутое в
светлое покрывало. Женщина отдыхала, когда Андрей подошел к ней.
- Давайте я вам помогу... Куда нести?..
- Сюда...
Андрей поднял светлый предмет и пошел за женщиной. Она
остановилась на знакомой лестничной площадке.
- А, так это вы к нам переехали... Значит, будем соседями.
Он хотел уже внести ношу в
дверь, которую распахнула женщина, но вдруг ему показалось, что он наступил
на ногу...
- Извините, пожалуйста,- проговорил Андрей и опустил свой громоздкий
сверток,- у вас такие симпатичные туфельки, а я вам их испачкал.
Он наклонился и быстро платком вытер туфельку. Выпрямился.
- Спасибо,- проговорила женщина и посмотрела на Андрея долгим
вопросительно-восхищенным взглядом... А из-за раскрытой двери раздался
дребезжащий старый голос:
- "Это еще кто там?"
Дверь закрылась.
Потом об этом случае Андрей рассказывал своему товарищу, который, как
обычно, вечером зашел в гости. Товарищ удобно сидел в кресле и листал
какую-то книгу.
- ...Все понимаю,- продолжал говорить он, - на тебя это очень похоже... Меня
только одно заинтересовало по-настоящему - что же ты нёс? Что можно
запеленать в наше время в дорогое светлое покрывало? Что там было громоздкое
и не слишком тяжелое?
- Это было кресло-качалка...
- 0!.. Действительно интересно...
Андрей опять вспомнил соседского деда со старой газетой.
Кресло под дедом мерно покачивалось, а Андрей – мальчишка - целился в шляпу
из рогатки. Выстрелил. Сбил шляпу. Кресло остановилось. Андрей побежал
вприпрыжку по длинному коридору с ликующим криком: " Теперь и нам можно
будет качаться!"
Андрей сидел за своим столом и смотрел на плавающих за стеклом аквариума
рыбок.
- ...И я не удивлюсь, если в самом скором времени тебе придется снова
помогать твоим новым соседям, - продолжал товарищ разговор, начавшийся с
кресла-качалки.
- Что ты имеешь в виду?
- Я имею в вицу простую добровольную типа волонтерскую помощь...
Андрей взглянул на девушку, улыбнулся, наклонился к туфлям и аккуратно вытер
платком чуть испачканные места.
- Ой, как красиво!- раздался голос девушки, она стояла у стола и
рассматривала рыбок. Андрей поставил туфли на место и подошел к девушке.
- Нравится?
- Очень...
- Вы хотите с ними поговорить?
- Как это?
- Если вы приставите одну ладонь к стеклу и будете бросать им корм, они
танцем своим расскажут вам много необычного... Вам будет казаться, что вы
понимаете их, что они понимают вас... Они очень чувствуют доброту, и
благодарят своей красотой.
- Можно я попробую?..
- Пожалуйста...
Андрей дал девушке баночку с кормом, а сам сел за стол. Тоже
стал смотреть на рыбок...
Вспомнил, как когда-то давно наблюдал за молодым своим соседом. Тот неуклюже
задом, словно беременная тетка в автобусе, выбирался на балкон. Очень
захотелось устроить ему какую-нибудь каверзу. Зарядить из рогатки мякишем
пониже спины, например. Но когда сосед развернулся, Андрей увидел, что в
руках у него был аквариум, а в нем живые рыбки. Причина неуклюжести и
беременности обнаружилась.
Рогатка сама собой
опустилась...
Андрей не мог оторвать взгляда от плавающих в аквариуме рыбок. Он уронил
своё оружие и медленно, словно притягиваемый, пошел к ним...
Подошел и близко-близко стал рассматривать их удивленные глаза и беспокойные
движения. Он не мог оторваться...
Часто вместе со своим товарищем Андрей сидел около аквариума и смотрел,
смотрел на колдовские танцы, магические движения плавающих рыбок. Товарищу
особенно нравилась голубая рыбка в пышном плавниковом наряде, которую тот
назвал Графиней.
- Ты замечал, какие у них удивленные глаза? - спрашивал он у Андрея» - Когда
в них долго смотришь, начинает казаться, что не ты их рассматриваешь, а они
тебя... И так хочется быть с ними, в их тишине, плавности, чтобы самому
всматриваться в глаза людей, в себя, и всё понимать... Ведь среди ладей
давно уже не важно, каков каждый человек в отдельности, добрый ли, злой ли;
главное, чтобы он делал своё дело как можно скорей и лучше... А с ними я
могу думать, говорить что думаю, фантазировать, мечтать...
Андрей встал и подошел к двери. Словно ожидая чего-то, приоткрыл ее. В щель
увидел знакомую пару туфелек. Улыбнулся.
Но, открыв дверь шире, заметил стоящие рядом старые истертые пыльные
ботинки.
Андрей взял туфельки, тщательно вытер их и поставил на место.
Взялся за ботинки. Работал щетками и кремом. Старая дряблая кожа даже
заблестела. Закончив, Андрей аккуратно поставил ботинки рядом с туфельками.
Осторожно прикрыл дверь. Вернулся на свае место...
Товарищ продолжал говорить:
- Так ты говоришь, она была у тебя... Это любопытно... Ну и о чем же ты с
ней разговаривал на этот раз?..
- Я молчал...
- А она? Всё грустила?..
- Ей очень понравились рыбки...
- Или она так сказала для того только, чтоб разговор поддержать... Зачем она
приходила? Ведь не за рыбками...
- Просто так...
- Конечно, просто...
Соседка Андрея вынесла знакомый громоздкий предмет на балкон. Стала
распаковывать его. Аккуратно
скручивала ленту, которой он был обмотан, развязывала узелки. Потом
принялась снимать покрывало. Под ним оказалась еще и белая простынь. Сняла и
ее, обнажилась качалка. Соседка поставила ее удобно,
протерла, попробовала посидеть, покачалась... потом собрала упаковку
и скрылась за шторами. А на балконе появился старик в длинной и широкой
пижаме, он сел в качалку и надел шляпу.
Выглянула соседка.
- Ты не можешь сделать так, чтобы я поздоровался с соседом?- спросил ее
старичок. - Или принеси мне мою газету.
- Зачем ты пришла?- спросил Андрей у девушки.
- Просто так,- сказала она и посмотрела в глаза Андрею. – Мне нужна была
твоя помощь... Твой взгляд... Твоя улыбка...
- Как ты нашла меня?
- Мне кажется, тебя нельзя не найти, ты такой странный, добрый.
- Добрый,- повторил Андрей. - Все мы по-своему добрые,- сказал он и встал.
Андрей знал, что его сосед, молодой парень, который познакомил его с
рыбками, болен, лежит в постели.
Андрей
вошел к нему.
У кровати стул, на стуле аквариум.
Бледное сухое лицо юноши.
Широко открытые, чистые, блестящие
глаза. Глаза смотрят
неподвижно в потолок. Беспокойно
плавают рыбки в аквариуме. Андрей не
знал, что происходило, но ему захотелось плакать. Сосед медленно поднял
руку, поднес ее к стеклу аквариума, прислонил ладонь, рыбки потянулись к
этой стенке, замерли в ожидании. Удивленно смотрели своими круглыми глазами.
Потом ладонь стала медленно съезжать по стеклу всё ниже и ниже. Сползла
совсем и остановилась на стуле...
Андрей медленно шел по длинному коридору, в глазах его были слезы…
А когда он недавно кормил рыбок в пруде и с удовольствием смотрел за
исчезающими в воде крошками хлеба, неожиданно резко и больно ударил по
нервам огромный всплеск от брошенного камня. Это пошутили двое мужчин.
Андрей резко оглянулся. Шутники стояли за ним и хохотали во все горло. Между
ними стоял малыш, которому, как бы в награду, один мужчина дал конфетку.
Малый
широко улыбался. Но все трое недоуменно смолкли, когда Андрей
прицелился в них из воображаемой рогатки.
Андрей снова заставил себя подойти к двери. Постоял немного в
нерешительности, потом распахнул ее. От самого порога
вглубь коридора стояла целая очередь обуви. Самой разнообразной, от
знакомых старых ботинок и туфель до огромных грязных сапог, были даже
комнатные туфли, были дорогие лаковые полуботинки с записочкой "Чистить вне
очереди!" Были поверх других поставленные старомодные остроносые шпильки...
Андрей закрыл дверь.
Недавно он был в кабинете у начальника, который вызвал его для беседы.
Начальник седел за массивным столом, как полагается под портретом, на столе
масса телефонов, календарь и все, что положено начальнику, в руках красный
карандаш.
- Я всё прекрасно понимаю. Но ведь и вы, голубчик, должны понять, что долг,
это все-таки долг, нельзя быть таким равнодушным, что коллектив о вас болеет
душой, что это все-таки коллектив, и к нему нужно относиться с уважением...
Надеюсь, что мы с вами больше не будем... (Тут зазвонил телефон). Так...
Да... Конечно же не занят... Давай, давай...
Андрей прошел мимо сидящего с
книгой товарища. Тот поднял голову, посмотрел на Андрея.
- Ты что-то ищешь? - спросил он его.
- Да, рогатку...
- Что?
- Да нет, это я так. Пошутил...
В это время раздался стук в дверь. Андрей остановился, посмотрел в ту
сторону, потом на товарища. Товарищ улыбнулся и опустил голову к книге.
Стук повторился более требовательно. За дверью слышались приглушенные
голоса. Андрей медленно стал приближаться. Постучали еще раз громче и
настойчивее.
Андрей приостановился на секунду и открыл дверь.
Всё моментально стихло.
Целая куча обуви была у порога. Без всякого порядка громоздились, - одна
пара на другой,- сапоги, туфли, ботинки, полуботинки, женские босоножки,
боты...
А за кучей стояли хозяева обуви: толстая женщина в цветастом халате, с
высокой прической, низенький мужчина с пролысинами и парой туфель в руках,
плотный пожилой человек в очках, тощая молодящаяся крашеная блондинка с
сапогом в руке, сосед в шляпе и пижаме, еще несколько человек, которых
трудно было в подробностях разглядеть...
Первым оправился от неловкой паузы старый сосед. Он приподнял краешек шляпы
и наклонил голову почему-то в бок. Потом низенький мужчина вздрогнул своими
пролысинами и сделал шаг вперед:
- Позвольте поинтересоваться, молодой человек, что это
такое? Я уже на протяжении получаса жду, а мои туфли все еще не готовы.
Меня.
между прочим,
серьезные люди ждут! Я не могу опаздывать!
- Да! Что это такое! - вставила та, что с сапогом.
- А я уже целый битый час жду! - взвизгнула упитанная
женщина.
- Вот так и доверяй человеку...
- Да, что это такое!..
- Как вам не стыдно, мелодий чек, заставлять ждать может быть беременную
женщину, - веско проговорила обладательница высокой прически.
После нее заговорили все сразу. Причем все старались пробиться ближе всех к
Андрею и сказать ему громче других веские свои слова.
…Вы же грамотный человек, тут же явно написано, что…
… действительно....
… я не потерплю такого неуважения...
…никогда не ожидал я от вас...
...дойти до такого...
...это же просто недопустимо…
... как он смеет ...
...да он просто издевается...
... сколько терпеть-то
издевательство можно...
Андрей отступил и закрыл дверь. Из-за нее еще громче понеслось:
... Куда же он?..
... вот она, нынешняя молодежь...
… да, что это такое...
... я давно замечал, что вы...
... надо жаловаться...
…и у меня вчера туфли здесь пропали, совсем новые...
… и вообще, его рыбы страшно шумят по ночам, спать не дают людям…
... ну куда же он…
Дверь от ударов распахнулась... В нее ворвались люди... они
побежали за Андреем...
Постепенно к этой группе присоединялись все новые и новые люди, их
становилось все больше и больше, -
уже десятки людей размахивали
обувью, потрясали руками,
бежали и звали:
"Ау, отзовись!" Ищите его, ищи-и-те! Вернись!
"Где же ты?" "Верни-и-ись !.." "Ты нам
нужен!!!"
Люди бежали и звали.
Темнело…
*


Весной бывают лужи.
" А сейчас прозвучат популярные классические произведения немецких
композиторов эпохи Возрождения" - объявил диктор по радио.
"Так!" - хмыкнул грузный мужчина с транзистором на груди. "Спасибо за
внимание". И выключил приемник.
Робко и трогательно прозвучала
над оттаявшим лугом первая трель жаворонка.
- Эй, хозяева, кому глину? - выкрикивал парень с подножки самосвала,
подъезжая к дачам.
Он хотел за машину желтовато-маслянистой
глины получить деньги.
Он не мог иначе. Жизнь требует расходов. Поэтому в выходной день он взял
машину, оформил левую путевку,
договорился в карьере со знакомым экскаваторщиком, загрузился пораньше и
приехал сюда. Но никто на его зов не отзывался. А планировал он сделать
рейсов пять.
Только весной так пахнут костры.
Мама стоит в очереди за золотыми вещами, а сын в седьмой раз выигрывает
звание чемпиона Европы.
После очередного землетрясения в Турции люди словно с ума сошли, - в
ювелирных магазинах постоянные
очереди, раскупаются все драгоценности. Товар срочно завозят из соседних
стран на вьючных животных. Цены стремительно растут. Ученые это связывают с
особенностями нынешних вибраций в районе эпицентра. Много
ультрафиолета. Очень сильная доза.
Подробности разместили на специальном сайте
HTTP:VIBRATOR.RU/
«Спасибо за поздравление, я еще
такого никогда в жизни не получала. И надеюсь, больше не получу».
"Я облазил все окрестные рощи и овраги, не спал много ночей и не находил
места себе почти месяц. Но теперь я точно знаю, что в наших краях не водится
неприятный зверь татцельврум."
Яблоки надо есть целиком.
Закрывать калитку следует плотнее, скрип ее просто невыносим.
Это не калитка, - это старый черный ворон сидит на сухой ветке и кашляет. Он
потерял свой дом, он сел не на то дерево. И теперь
склероз его доконает, кашель задушит, к новолунию он непременно
умрет.
Лед начинает таять со следов.
Грязь бывает приятна только весной. Если ты не уронил в нее свои очки.
Старые деревья разговаривают вздохами.
Утро было грустным, как глаза негра, оказавшегося в Антарктиде.
Зачем писать много маленьких рассказов? Лучше написать один большой роман.
Актер плакал каждый раз, когда ему приходилось душить Дездемону. Он терял
квалификацию - никак не мог ее задушить.
Счастье - это умереть
неожиданно.
- Добрый день, вы терапевт?
- Да, слушаю вас.
- Если что-то внутри не так, как должно
быть, с этим к вам?
- На что конкретно
жалуетесь?
- Я собственно, за
консультацией. Ведь верно, если в кале замечается присутствие чего-то
красного, скорее всего, это кровь, то это свидетельствует о том, что в
организме что-то не совсем правильное происходит. Да?
- Для того чтобы что-то говорить про конкретные цветовые ингредиенты
вашего кала, надо сделать его
анализы.
- Да, очень. Я как раз с
собой захватил небольшую коробочку.
- Нет, мне вы этого не показывайте и нюхать не давайте. Это нужно сдать в
семнадцатое окно на втором этаже, там у нас прием всех анализов в
лабораторию. С самого
утра и до десяти или,
если не успеваете это сделать утром, после восемнадцати.
- Спасибо.
- А уж потом,
когда результаты принесут
мне, вы с карточкой заходите, мы обсудим, что делать и как нам лучше с вами
и вашими симптомами поступить.
- Спасибо.
- Не за что. Всего доброго.
- До свидания.
- Следующего там позовите.
как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
В лютую стужу, когда птичкам было так плохо, я ходил по парку и разбрасывал
зерна. Хотелось им помочь. Слетались кучами пернатые. Жадно клевали
дармовую жратву. Зерно я отравил.
Вещь стала непригодной, или из одежды что-то износилось, - куда девать это?
- На дачу!
Здесь
все сойдет,
рано или поздно в том или ином виде пригодится. Тут у нас привыкли
ходить в растоптанных дырявых башмаках на три размера больше и в кофте
выгоревшей настолько, что ей никто не даст
от рождения ее документально подтвержденных восемнадцать лет.
Вот и меня на дачу отвезли...
Как мыльная пена, весенний лед,
такой же хрупкий и едкий.
Старый волк добровольно пришел в зоопарк. Он был умный волк и хотел
обеспечить себе старость. Но волка убили. Подумали, что он - собака.
Деревце удивленно вскрикнуло и упало срубленное.
День начался для меня счастливо - я повесился.
На скамеечке возле покосившегося забора сидел дед и плакал.
Я проходил мимо, остановился, спросил, не могу ли я чем-нибудь помочь. Дед
посмотрел на меня заплаканными глазами, махнул рукой и сказал: "Чем ты
можешь помочь? Я умираю, никогда в жизни не видя птицу колибри. О ней мне
рассказывал еще мой дед. Я всю жизнь мечтал об этом..."
Я спросил, что же помешало ему исполнить заветное желание. Дед еще раз
грустно вздохнул:
- Все было некогда...
Начало - ласкательно: "руководитель".
Моя традиция - отступление от традиций.
Мой принцип - беспринципность.
- Мама, посмотрите, какая дырявая лужа - звезды!
- А?!
- Я говорю, посмотрите, какая лужа.
- Чего ты?
- Лужа, я говорю и звезды в ней!!!
- А?
- Нет, нет, ничего...
- Чего?
- Ни-че-го-о!
- Что ж ты так кричишь мне в ухо, если ничего?..
Давайте к празднику испечем пирог с котятами. Все равно никто не поверит.
Подумают, что мы шутим.
Вся трагедия Понтия Пилата в том, что у него страшно потели ноги. Он любил
ходить босиком по прохладным мраморным плитам. Простудился и умер.
Работайте, работайте, мне не важно, чтоб вы что-то сделали, мне важно, чтобы
вы вспотели!
Кто точно знает, сколько ног у сороконожки? Кто считал?
Как скучно, наверное, майскому
жуку в октябре...
Настоящий поэт может написать стихотворение о технике безопасности при
прокладывании канавы ручным способом.
- Добрый
день, мне сказали, что к восемнадцатому уже результаті
будут, я пришел узнать, потому что все-таки беспокоит, откуда бы там взяться
красному такому. Ничего вроде не болит, а кровь постоянно присутствует.
- Ваша карточка?
- Извините?
- Вы записывались на прием
ко мне?
- Нет.
- Надо записаться. Сестра
принесет карточку.
- А если я сам сейчас же,
чтобы не оттягивать?
- Не положено. Запишитесь
на завтра, на вторую, и приходите часикам к шести.
- Всего доброго.
- Позовите там следующего.
Надгробие в виде чугунного дерева
со звенящими листочками.
Из яичницы никогда не вылупится цыпленок.
Квадратный куб.
Я – чей-то сон.- О, друг мой, спи подольше, не просыпайся...
Было зябко. Хотелось зябликов. Прекрасно понимая, что зябликов сырыми не
едят, я собрался на охоту. Взяв с собой охотничье ружье, вышел в луга.
Вокруг не было ни одного зяблика. Летали только самолеты. Какая досада. Как
зябко. Я никогда в жизни не ел зябликов, а мне так хотелось попробовать...
Кстати, об охоте. Мой дед рассказывал, как однажды он подстрелил какую-то
чудную птицу, вроде лошади, только с крыльями. Собрались мужики над убитой
дичью, стали думать, что же это такое. Содрали
шкуру, попробовали сварить. Вроде куриный бульон получается. Только с
сильным лошадиным духом.
Дятлу весной нужна крепкая
голова.
- Можно ли ходить по потолку?
- Можно. Только вытирайте ноги.
Собака ничем не отличалась от пуделя, кроме того, что была эрдельтерьером.
Раньше колокола звонили, когда
начиналась буря. Теперь же нет таких колоколов. А бури остались.
Люди молили бога, чтобы он избавил землю от засухи и послал
дождь. Бог слушал, слушал их стоны и сжалился. Люди плакали от
радости, когда на небе стали собираться тучи. Дождь хлынул
неожиданно и обильно. Не прекращался много дней. Началось наводнение. И все
утонули.
Небо упало в лужу. И я упал в лужу. Я - небо?
Кто может ответить, что такое деженё? Никто. Потому что надо нажать иную
клавишу и спросить по-французски: кто знает, что такое
дежёнё.
- Так что такое дёженё?
Когда у стоматолога болят зубы, он точно знает отчего именно и по опыту
знает, что надо делать, но при любых политических раскладах и результатах
выборов в органы местного самооуправления, он ни за что на свете
добровольно не сядет в свое рабочее кресло.
Суперфосфат хорошо помогает бобовым.
Есть много уловок и отговорок, но всегда приходит время, когда уже просто
нельзя сказать правду...
Жить в нравственном отношении надо так, как если бы ты должен был умереть
сегодня. А работать так, как
если бы ты был бессмертен.
Только салют разбудил меня. Меня
уже несли хоронить...
На картине было изображено лицо, в которое всем хотелось плюнуть.
Но плюнул я один.
Все меня осудили...
Если б он не сказал, что он скрипач, я бы тут же его убил. Но мне
захотелось, чтобы он что-нибудь сыграл перед смертью. А он достал свой
футляр, вытащил оттуда пистолет и выстрелил в меня.
Вот так и верь людям. С тех пор я, хоть и одноглазый, но страсть как
музыкантов не люблю.
У него был один маленький недостаток - две головы.
Даже если в казарме поставить цветы, все равно это будет казарма.
Трое прыгнули с моста в канал, когда
заметили плывущую ассигнацию.
Двое утонули, один выплыл. Он держал бумажку в руке и хлопал глазами: это я
ее нарисовал.
Очень похоже.
Я уже держал большую и сильную птицу в руках, я уже чувствовал, как бьется
она, как рвется на волю. Но вдруг что-то произошло и все изменилось - на
меня посыпались маленькие белые пушинки, мягко опускались они к моим
ногам - я не успел ничего сделать, остался беззащитным и слабым в этой белой
пустыне, разменялся на мелочи и умер, на всю жизнь сохранив ощущение в руке
живой бьющейся птицы...
В углу всегда бывает темнее...
Неужели дереву никогда ничего не
снится?
Одна из четырех ворон была еще жива, и видно было, как едва
заметно шевелятся ее крылья, - она думала, что летит...
Рыба не умела плавать.
Она покончила жизнь самоубийством: выбросилась на берег.
Но тут ей показалось намного лучше, чем в воде.
Она полежала, поднялась и пошла в заросли камыша, свила себе гнездо и
сделалась птицей бекасом.
Всего лишь два пути есть у тебя: быть спиленным или сгнить на корню.
Деревья-поэты умирают от удара молнии...
Если бы знал человек, что его ждет там, он никогда бы не умирал.
Ему бы это было просто не нужно.
Сколько апломба, сколько самомнения – мол, масштабная историческая фигура,
харизматическая персона, личность во всех смыслах выдающаяся,
чуть ли не лидер нации, от воли
которого зависит судьба и благополучие народов и осуществление
надежд на светлое
будущее.
А если присмотреться повнимательнее - на самом-то деле при всех надутых
щеках
- всего лишь грязное пятно на мембране вируса поселившегося на
слизистой оболочке в ноздре
чепрачного шакала несущегося сквозь колючие заросли в засушливой саванне за
самкой в период гона.
Пушкин не виноват, что он такой
талантливый...
Молодой водитель самосвала матерился монотонно и беззлобно, когда сваливал в
овраг бесполезную желтую глину: он выбрасывал
в овраг столь желанные купюры...
Костер горел так красиво и ярко, что всем захотелось найти, хоть
какого-нибудь завалящего еретика, чтобы тут же его сжечь.
Пуля - дура, а штык - в холодец!
И Шекспир не виноват в том, что
талантлив.
Если посмотреть на это озеро сверху, то оно станет похоже на зевающего
слона.
Хорошо в Египте во вторник!
Космонавт забыл дома карту и потому приземлился в Новохоперске на берегу
озера,
что в семистах километрах южнее Йошкар-олы.
Я слышал, что есть негры - евреи. Бог ты мой! Мало того, что негр, так еще и
еврей!
И Лев Толстой не виноват в том,
что Пушкин талантлив.
Икона плакала золотыми слезами...
Неужели у Александра Македонского был папа? Не может быть, это же было так
давно...
- Добрый вечер, это я. Я
вчера записался.
- На что жалуетесь?
- Я анализы сдавал. Мне
оказали, что результат.
- Ах, анализы. Дело в том,
что вашу карточку не смогли найти. Вы знаете, её надо найти. Или завести
новую, потому что могли и потерять.
- Но как же так, ведь я
столько времени трачу на такие вещи, а может быть у меня внутреннее
кровотечение, и надо срочно принимать внутриполостные меры. А мы с вами
изводим драгоценное время на разговоры о формальном подходе. О карточках и
поисках. Анализы у меня с собой, и их можно не отходя от регистрации прямо
лично посмотреть и проанализировать на предмет содержащегося в них
содержимого.
- Вы не волнуйтесь.
Карточка найдётся, тогда и приходите.
- Я буду жаловаться.
- Это ваше право. Но я без
карточки не имею права вас принять, вы понимаете.
- Нет.
- Пожалуйста, позовите там
следующего.
Для маленького воробья маленькая лужа - большое озеро. А если там плавают
звезды – то значит это вся
вселенная.
И на кладбище весной бывают праздники.
Годовщину городского трупозакапывательного учреждения коллектив встретил
досрочно перевыполнив план по освоению новых площадей. И был отмечен
городским головой наручными
часами, выпускаемыми городской часовой фабрикой тоже перевыполнившей план по
валу.
А вот чем их-то в ответ награждать?..
*


- Смотри, мама - нолик! - воскликнула моя дочь, показывая пальчиком подпись
на поздравительной открытке.
- Это не нолик,- стала я объяснять ей,- а буква "О", понимаешь?
- О-о-о! О-о-о! - запела Танька и стала натягивать рукавички. Она собиралась
на улицу кататься на санках.- Очень, очень хо-о-ро-о-шо-о-о!..
Ей нравилось разными голосами петь эту круглую букву,
вставлять её в разные слова.
- Я по-о-ошла! - пропела она и скрылась за дверью.
Опустившись на стул тут же в прихожей, я отметила, что сама никогда бы не
додумалась назвать эту размашистую закорючку на открытке ноликом. Как
никогда бы не додумалась переделывать Чуковского. А Танька без тени смущения
поправила меня, когда я читала из "Мухи-Цокотухи" - пошла муха на базар и
купила ... овощей...
Сколько я не пыталась объяснить ей, что такое рифма и для чего самовар, она
была непреклонна: как только доходили мы до этого места, убежденно
произносила - овощей!
И всё тут.
И смеялась, понимая, что это нравится мне ничуть не меньше, чем ей самой.
Мне нравится независимость мнений.
Моя дочь ни капельки на меня не похожа. Она вся - в мужа.
И глаза, и волосы, и большие оттопыренные уши, и даже голос.
Мама говорит, что такое сходство проявляется только в счастливых
семьях.
Папа на это шелестит газетой и ухмыляется под очками.
Папа знает, как мы с ним похожи. В детстве он всегда сам стриг меня коротко
и называл сыном - Татьяном.
Беззащитная уловка в игре с обманувшей надежды судьбой.
Также называла меня моя подруга Оля.
Мы с ней с самого рождения жили
в одном подъезде и потому дружили. Всегда ходили вместе. И на нас всегда,
особенно в старших классах, оборачивались.
В основном мужчины. Это объясняется очень просто: Оля была красавица.
И на нее нельзя было смотреть без восторга.
Бывает же такое - родится человек красивым до головокружения.
Это ни с чем не сравнимый талант - быть красивой женщиной,
красивой настолько, чтобы мужчины всех национальностей и возрастов
одинаково оглядывались, округляли глаза и восхищенно присвистывали.
Олька была ко всему еще и не глупа. Может быть это влияние генов. Она рано
научилась красиво и правильно
по-житейски рассуждать. Это потому что у нее мама уж очень хорошо
рассуждала. И была всегда абсолютно уверена в правоте того, что говорила. От
этого часто проскальзывали в ее голосе крикливые интонации и в постоянном
ходу был набор выразительных междометий.
Жизнь у тёти Веры во многом не задалась и потому осуждать ее за порывистость
характера как-то не приходилось. Она была по сути своей доброй и очень
доверчивой. Но, обжегшись на молоке, дула на воду. Если она видела по
телевизору побеждающую на международных соревнованиях
по гимнастике девушку, то говорила обязательно,
что та любовница или тренера или судьи, а может быть и того и другого
одновременно. Если вдруг оказывалось, что главную
роль в новом каком-нибудь фильме сыграла молоденькая актриса, - мама
понимающе улыбалась. Ей и тут было все ясно. Какой же режиссер согласится
снимать никому не известную актрису просто так, когда вокруг навалом таких
красавиц и известных уже, и раскрученных по полной программе.
Хорошо быть в чем-то уверенной.
Мама
Оли была уверена, что красивая женщина может в жизни достичь всего.
Сама она в молодости тоже была очень ничего, но потратила всю свою красу на
мужа и на детей.
Оля унаследовала многое от мамы. И то, что умела очень правильно
не по годам сначала, а потом и по годам, рассуждать и то, что
поступала совсем не так, как говорила. И даже любовь у нее получалась
какой-то идиотской. Многоступенчатой, как космический
корабль. Хотя при ее красоте, казалось бы, с этим не должно было быть
никаких проблем.
Вот у меня, например, никаких проблем действительно не было.
Только мама сказала, что никогда от меня такого не ожидала.
Мы росли, и встречались с Олей реже, чем в детстве. Нам было интересно
наблюдать при каждой новой встрече за изменениями, произошедшими
снаружи и
внутри. А может быть это только мне
так казалось и я наблюдала соло.
Снаружи Олька почти не менялась. Если не считать что постоянно что-то новое
было на ней из одежды - она, под жужжание мамы сначала, а потом и
самостоятельно, очень придирчиво следила за изменениями моды и находилась
всегда, что называется на острие.
Причем у многих это вызывало страшно отрицательную реакцию и нужно было
потратить определенное время чтобы выработать иммунитет.
В последних классах школы, например, учительница математики молодая и
заносчивая, а заносчивость у нее появилась как следствие отсутствия любви к
предмету и к работе, - так вот эта учительница никогда не пропускала случая,
чтобы заметить Оле, как она вызывающе одевается. Сама учительница тоже,
видимо, стремилась быть на острие, но, как говорила Оля, не догоняла.
Эта учительница почему-то с самого начала заподозрила Ольгу в порочных
связях и была убеждена, что на нее тратятся родителями баснословные суммы,
так как носит девочка даже в школу всё слишком модное иисключительно
заграничное.
Оля молчала, зная обо всех этих разговорах. Она смеясь ушла с классного
собрания устроенного в честь ее,
по персональному делу об её вызывающем облике. Она умела отстраняться от
разговоров и дел, и ей как-то очень легко все это сходило с рук. Наверное,
это справедливо, потому что она никогда не была заносчивой и гордой. Она
понимала, что ничуть не виновата в том, что родилась красивой, понимала, что
нет в этом никакой её собственной заслуги, и относилась к своей внешности
иронически.
Смеялась она над молодой учительницей математики и над общим
педагогически-ученическим собранием вот почему. Я одна знаю это
совершенно точно: почти все, что так раздражало своим иностранным
происхождением нашу учительницу, Олька шила и мастерила сама.
Этому тоже она научилась от мамы. Руки у нее были поставлены именно
в то место, где должны они стоять у женщины, что бывает довольно
редко.
Мне тоже как-то перепала юбка изготовленная фирмой Коростылевых. Когда я ее
надела, я поняла, что существует принципиальная разница между фигурой моей и
Олькиной. Тогда были в моде мини. Чтобы быть на острие, Олька кроила мини
так, что из одной маминой старой юбки получилось бы штук восемь модных. Я
тогда же у зеркала убедилась,
что это, кстати, совершенно неважно, какие у писательницы ноги и в чем она
ходит. На острие она или нет. Я предпочитала и теперь предпочитаю брюки.
Удобно и строго. Олька и джинсы сама себе пошила вельветовые, такие, что
идеальная линия ее бедер стала еще идеальней. И долго, очень долго не трогал
ее душу червь сомнения, что что-то может быть иначе, как-то по-другому.
Потом он ее стал трогать, но она
старалась этого не замечать.
Я в это время больше читала, чем писала. Я хотела прочесть всех известных
писательниц от Марии Эджворт до
Веры Кетлинской, чтобы понять - смогу я или нет стать в один ряд с ними.
Да, я не знаю, что такое несчастная любовь. Не получилось у меня такой. И
потому я очень многого не понимала в романах на эту тему.
А про такую, как у меня, никто не написал.
Как-то я поздно возвращалась домой, было уже за полночь.
И вдруг я увидела сидящего на стуле прямо посреди тротуара человека.
Естественно, что я не могла его не заметить: кругом пусто, ни души, ночь,
тьма, можно сказать кромешная, город спит,- а тут вдруг такая экзотика.
Я машинально прошла мимо, но затем остановилась. Не то чтобы я была очень
любопытной, но мне почему-то что-то подсказало, где-то в глубине души вдруг
обозначилось - тут кроется прекрасный материал для будущего рассказа. Может
быть это и не очень гуманно, но именно поэтому
я остановилась и сделала несколько шагов назад. Постояла молча, рассматривая
сидящего человека. По всему было видно, что он специально подготовился
сидеть здесь, и что ему очень удобно. В свете уличного фонаря он умудрялся
читать книгу в газетной
суперобложке и у ног его приютилась потрепанная сумка.
В ней не могло ничего быть другого, кроме как термос с кофе и два
бутерброда, один с колбасой, другой с маслом
и сыром.
Я
смотрела на него молча ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы
вспомнить, что громоздкое серое здание с освещенным
широким подъездом - это театр. Как только я вспомнила этот факт, я
все поняла и мне даже стало смешно, потому что только в специальной
литературе можно встретить таких театрофилов.
В жизни я подобного не встречала. До этой ночи.
- Вам что, нужен билет? - спросила я наивно.
Сидящий оторвался от книги и поднял на меня глаза.
Полыхнуло синим загадочным светом. Он исходил издалека - субъект, обладатель
по-детски синих неправдоподобно наивных глаз, постепенно возвращался
в сознание, вынужденно отвлекаясь от содержания своего чтива.
- Вы что, собрались тут сидеть всю ночь с тем, чтобы завтра быть первым в
очереди? - откровенно высказала свою догадку я, потому что ничего другого
мне не оставалось делать.
Вместо ответа человек почему-то встал и, держа книгу на вытянутой руке,
сделал ко мне два шага.
- Вы что, сумасшедший? - еще раз сказала я с вопросительной интонацией, так
как он ничего не говорил, а все смотрел на меня с недоумением и медленно
приближался.
Можно было подумать, что это ему что-то во мне казалось странным, будто бы
это я сидела среди ночи на стуле на тротуаре. Нелепая выходила ситуация, но
что-то упорно мне подсказывало, что это только начало, и что начинается
здесь нечто очень странное, но прекрасное...
- Как вас зовут? - тихо спросил он.
- Таня, - как идиотка, покорно ответила я, и вспомнила маму.
- Красивое имя, - почему-то проговорил он и подошел ко мне вплотную.
- Нормальное, - не согласилась я с ним, хотя мне мое имя также очень
нравилось. И я даже практиковала довольно часто в домашних условиях говорить
о себе в третьем лице, что получалось очень красиво.- А почему? - в
очередной раз спросила я.
- Что? - не понимал он вопроса.
- Почему вы такой невежливый? - уточнила я.
- Я? - удивился он.
- Да, - настаивала я.
- Извините, - покорился он. - На вопросы ваши я не ответил потому, что они
оба сугубо риторичны.
- Вот как? - сказала я, зная, что сейчас мы станем говорить о чем-то другом.
- Это удивительно, - просто признался он. - Вот я сидел читал и спиной
буквально почувствовал, что сейчас ты остановишься, подойдешь ко мне и
спросишь что-то именно про мое дурацкое положение.
Разве такое бывает? Ты не сердишься, что я сразу с тобой на ты? Меня
звать Костей.
- Не сержусь. Такого не бывает. Ты это придумал сейчас.
- Такое бывает. Кстати, ты еще не знаешь, что мы с тобой поженимся?
- А ты это уже знаешь?
- Да.
- А может быть я уже.
- Что?
- Уже замужем.
- Такого не может быть. Я же еще не женился на тебе.
- Ты действительно сумасшедший?
- Видимо, да.
- Тогда я пошла.
- Я знаю.
- Пока.
- Привет. Завтра мы встретимся здесь без пяти семь. Потому что я буду первым
в кассу и куплю билеты, и мы с тобой вместе не будем смотреть спектакль.
Идет?
- Я ушла.
- До завтра.
Вот он сказал это свое " до завтра" и снова сел на стул и стал читать свою
книгу.
А я шла домой и почему-то ничего уже не понимала.
И почему-то совершенно забыла о том, что хотела всего лишь разведать
что-нибудь для будущего рассказа.
"Костя, - это значит Константин, - размышляла я наедине с собой. - Красиво.
Император, помнится, был такой - Б а г р я н о р о д н ы й!..
Проснувшись назавтра, я твердо решила, что никуда не пойду и что мне это все
приснилось. Ну разве такое бывает?
И не пошла.
Ровно в шесть часов я уже точно знала, что никуда не пойду.
Я была дома и специально смотрела телевизор, хотя вообще занятия этого не
люблю.
Я пыталась вязать свою бесконечную кофту, но ничего у меня не получалось, и
я распускала больше, чем навязывала.
В половине седьмого я уже не могла вязать.
Я прикидывала, что через пять минут истекает срок, когда бы я еще успевала
переодеться и к без пяти семь прибежать к театру.
Как же можно упускать такой случай изучения человеческого характера,-
уговаривала я себя. - Ведь интересно посмотреть, как он будет стоять и
ждать, какие у него будут глаза. Почему-то что-то грустное, как прощание,
родилось во мне, когда я вспомнила голубое марево его глаз.
Через десять минут, повторяя сама себе: "никуда я не пойду, конечно же я
никуда не пойду, я только издалека посмотрю, как он стоит и ждёт и всё;
дождусь, когда ему надоест ждать и уйду домой, это же не считается, что я
иду, правда?.." - я незаметно для себя собралась и даже расчесалась. Перед
зеркалом я вдруг вспомнила про идеальную линию бедра Оли, про неотразимый
поворот ее шеи, про роскошные
густые волосы, наэлектризовано блестящие и живущие
своей самостоятельной жизнью, никакого отношения к остальной
Ольге не имеющей. На эти волосы можно было смотреть, как на пейзаж,
смотреть и вздыхать.
Я помотала головой отчего прическа моя
приобрела свой нормальный рисунок - спортивная, на все случаи жизни -
и, взяв для самоутверждения зонтик, я вышла из дома.
Я шла обычной своей походкой, походкой деловой женщины, но почему-то все
казалось мне замедленным и странным. И неизвестно откуда взявшийся во мне
голос, похожий на Олькин, вещал мне гулко, как в бане: - Ты сходишь с ума!
Ты же опять себе всё это придумала. Подумаешь, какой-то студентик. Что он
может тебе дать, если он даже билета нормально достать не может? Тебе совсем
другой нужен муж!
Последняя фраза была произнесена уже дуэтом, к Олиному голосу добавился
мамин. И они прокричали эти странные слова, так словно я собиралась
броситься под поезд, а они планировали меня остановить и тем спасти.
Я остановилась.
"Муж...
Му-уужж",- попробовала я на вкус это короткое и упругое слово,
прокатив его во рту, как конфету. И впервые я ощутила родственность
слов: муж, мужчина, мужество.
Ощутила и ничуть не удивилась, словно
так и должно было быть всегда, словно я давно уже знала, что и ко мне
это имеет отношение.
Я опоздала на пятнадцать минут.
Подходя к театру я почему-то загадала, что, если он будет стоять так, что я
его сразу увижу, и с цветами, то...
Я не могла не засмеяться, когда увидела его.
Представьте себе такую картину: вечер сгущается, народ спешит
по своим делам и толпятся у театра люди желающие попасть внутрь
и спрашивающие лишние билетики.
И среди этого месива и суеты неподвижный, как изваяние, с огромным букетом
цветов и на одной ноге стоит он.
Я решила еще раз проверить его и пройти мимо. Но он заметил меня сразу.
- Здравствуй, - сказал он, когда я поравнялась с ним.
- О, это вы? - вскинула я удивленно глаза. - Что с вами?
- Со мной цветы.
- Вы действительно сумасшедший?
- У вас нет лишнего? - всунулась между нами какая-то физиономия,
подозрительная, между прочим, до крайности.
- Нет, - спокойно ответил Костя. И не было понятно - мне ли, или спросившей
физиономии.
- Почему же вы стоите на одной ноге? - поинтересовалась я тогда.
Искатель лишнего билета вопросительно посмотрел на свои ноги, скептически на
мои и исчез.
- А, это очень просто. Вы вчера не очень хорошо рассмотрели мое лицо, было
темно, и сами прежде чем идти сюда не были уверены узнаете ли меня. Вот я и
решил помочь, - исчерпывающе доходчиво объяснил он.
-
Спасибо, - почему-то покраснела я.
Действительно, что тут странного, если человек стоит на одной ноге с букетом
цветов! Неужели это может быть
кому-то не понятно? Он хочет, чтобы я его заметила.
- А это тебе, между прочим, - сказал Константин, протягивая мне цветы.
- Да, а я думала, что для главной героини, - опять сморозила я.- Между
прочим, можете стать на обе ноги, так как мы уже встретились, - тут же
попыталась я реабилитироваться.
- Логично. - Он встал на обе ноги и попробовал их прочность.
- Главная героиня - это ты, - сказал Костя после того, как убедился в
исправности обеих ног.
- Но неудобно же идти в театр с таким букетом, - упорно несла я чепуху,
словно это была не я, а кто-то другой, временно меня тут заменяющий, пока я
настоящая приходила в себя от смятения царившего в душе: всё, что я
загадывала исполнялось и мне ничего не оставалось, как принимать решение.
-
Билет есть лишний? - безнадежно и бесстрастно спросил высокий парень в
клетчатом пиджаке и даже не остановившись прошел мимо.
-
Нету, - вежливо ответил Константин. - Нет ни лишних билетов, ни нелишних,-
уточнил он специально для меня.- Мы, кстати, не идем в театр.
-
Ты что, не достал билетов, зря просидел всю ночь?
-
Нет, билеты я купил.
-
Так почему же?..
-
А ты очень хочешь посмотреть именно этот спектакль?
-
Я уже видела.
-
Я тоже.
-
Не понимаю.
-
Я не себе покупал билеты. Понимаешь, у меня есть учительница знакомая, она
меня учила еще тогда, когда я был совсем крохотным, в первом классе, -
как-то так получилось, что он начал рассказывать и мы пошли с ним в сторону
площади. - Вот. Она теперь на пенсии, но работает на общественных началах в
детском доме. И попросила меня для своих ребят достать билеты. Они очень
хотели пойти в театр. Хочешь мороженого?
- Хочу.
Пока Костя покупал мороженное, причем, не спрашивая меня, он купил именно
моё любимое, фруктовое, я стояла и думала, что странный сон, приснившийся
мне недавно, вопреки прогнозам и
научным данным, продолжается и захватывает меня всё больше и больше.
У меня появилось совершенно банальное ощущение, будто мы с Костей знакомы по
меньшей мере сто лет. Я раньше думала, что так любят выражаться лишь
неумелые литераторы, что все это бред и суесловие. Но теперь на себе
ощутила, что такое на самом деле есть.
Мы сидели в сквере и ели мороженое.
- Олька скажет, что я психопатка, - вдруг сказала я.
- Это твоя подруга, - догадался Костя.
- Да.
- Ты ей не верь. Пока ты нормальная.
- Ты кто? - спросила я чуть позже.
- Этот вопрос не по адресу, - сказал Костя и, ловко выбросив бумажный
стаканчик, встал. - Пойдем.
Он затащил меня в большой старый дом и поднял на третий этаж, своим ключом
открыл дверь. В комнате меня встретила приветливая светловолосая женщина с
костиными глазами.
- Вы Таня? - спросила она меня.- Костя много рассказывал о вас.
Проходите, садитесь, сейчас будем чай пить. Костя обожает заваривать
чай. Он знает шестьдесят способов приготовления чая. Не рассказывал
еще?
- Нет.
- Мама, она спрашивает, кто я такой, - прокричал из кухни Костя.
Мы с мамой сели и стали говорить.
Я отвечала кротко и тихо.
Я старалась наблюдать за собой со стороны и у меня ничего не получалось.
Все путалось в голове, но путаница эта не была стыдной или неприятной, она
возбуждала и радовала. И совсем уже не понятно как получилось, что вместе с
чаем пришло настоящее веселье, мы хохотали и болтали обо всякой ерунде.
Костя поил нас чаем, приготовленным по методу французских солдат времен
Наполеона, - с медом.
Было очень вкусно.
Необыкновенно!
Я не смогла бы ответить себе на вопрос, что это происходит со мной. Но я
вполне сознавала, что что-то стряслось и что мое загадывание впервые в жизни
будет исполнено.
- Ты что это так поздно? Тебе целый вечер Оля звонила, - встретила меня моя
мама.
- Это ничего, - ответила я, почти не понимая, что говорю и что слышу.
Я пошла к себе в комнату и села за стол. По привычке я взяла ручку и начала
что-то писать.
Оказалось, что это были стихи.
Стихи о том, что надо прожить ночь и еще немного, чтобы дождаться
назначенного для встречи часа. Раньше я никогда не писала стихов, так как у
меня рассудочный склад ума.
- Мама, я пила сегодня чай наполеоновских времен, - сообщила я как бы между
прочим.
- И он не остыл за столько лет? - пошутил папа, не отрываясь от телевизора.
Показывали хоккей.
- Какой чай? - не поняла мама.
«Гол!» - закричал телевизор человеческим голосом и папа громко и
нелицеприятно прокомментировал
это незабываемое событие.
Я пошла в ванную.
Папа не терял надежды на то, что жизнь меня научит в конце концов и я
образумлюсь, стану нормальным человеком. Он отпустил меня в море жизни,
чтобы я сама выкарабкивалась: или научится плавать, или...
Он не договаривал, но было ясно, что ничего хорошего это второе "или" не
сулит. Папа не заметил перемены, произошедшей во мне, он продолжал
относиться ко мне, как к прежней своей дочери, а этого делать было нельзя,
это предвещало конфликты и несовместимости.
Наступала весна.
Нервы у всех набухали, будто почки, и сердца становились легкоуязвимыми, как
птенцы.
- Ты психопатка! - заявила Олька, когда я ей рассказала, что вышла за Костю
замуж. - Кто он такой? Что он может тебе дать? - задавала она резонные
вопросы и рубила воздух рукой, как это делают темпераментные ораторы. - Кто
его родители?
- Его маму зовут Екатерина Викторовна, она работает мастером на кондитерской
фабрике, - рассказала я.
- И обещает тебе сладкую жизнь? - съязвила Оля.
- Нет, - призналась я. - Она мне не обещает сладкой жизни. – Но нам хорошо
втроём.
Оля вздохнула и стала рассказывать мне о том, что надо уметь брать от жизни
всё, так как жизнь, а особенно молодость, бывает только один раз.
"При твоей голове," - говорила она, и я с удивлением
обнаружила, что голос моей подруги состоит в точности их тех же
звуковых деталей, что и голос ее матери.
Оля приводила в пример своих подруг и моих знакомых, которые сумели, может
быть и переступив себя, но достичь многого.
- Да, - увещевала меня Оля, - приходится иногда и переступать себя, свои
принципы. А на кой они нужны, скажи мне пожалуйста, если море бездарностей
без них живёт в сто, а то и тысячу раз лучше, чем мы с тобой,
принципиальные? А?
Оля оставалась красавицей.
В ней что-то менялось, что-то наполнялось
новым содержанием, но вот основная, семейная черта их, Коростылевых,
оставалась неизменной: она все так же очень хорошо все понимала и
рассказывала, но поступала совсем иначе.
Она закончила всё-таки, несмотря на то, что поступать не очень хотела,
театральный институт, стала актрисой. И замуж вышла, хотя как-то и не
собиралась совсем, за своего
однокурсника Володю. Володя был приезжим, жил в общежитии и считался очень
талантливым студентом. Распределили его в родной город, в театр, славный
своими старинными провинциальными традициями. Оля поехала вместе с ним.
Причем на этот раз Олина мама была убеждена, что всё тут чисто. Оля прожила
там почти два года. Снялась в кино. Нравоучительный фильм
рассказывал юным зрителям
о том, что хорошим человеком может стать лишь тот, кто с детства
испытывает всевозможные трудности, причем, чем больше трудностей, тем лучше
человек.
Оля играла как раз пример отрицательного характера, она и маму не слушалась
и трудностей у нее не было. И потому жизнь у нее не задалась вплоть до
столкновения с
правоохранительными органами. Еще несколько раз приезжала Оля на киностудию
на пробы, но почему-то больше ни в одну картину ее не утверждали. После двух
лет работы в театре она вернулась домой отдыхать.
-
Надоело, - сказала она коротко.
Мы встречались довольно редко.
Каждая встреча почему-то сводилась к разговору о том, что надо уметь
устраиваться в жизни. А мне некогда было говорить об этом, мне нужно было
бежать за Танькой в садик и по пути забрать из прачечной белье.
Я закончила филфак и работаю в детском издательстве.
Потихоньку от сотрудников пишу свою повесть. Костя работает учителем
литературы в школе, где раньше сам учился. И дети, его кажется обожают. Во
всяком случае даже специально вопрос разбирался на педсовете о том, что в
классах Константина Константиновича нет троек по его предмету и почти не
ставятся четверки. Дело дошло до комиссии. И комиссия была удивлена
увлеченностью ребят литературой и принципом взаимоотношений учителя и
учащихся.
"Не двойка стимул в ученье, а
пятерка" - был общий лозунг у них...
Комиссия просила молодого преподавателя выступить с докладом на очень
серьезном совещании. Но выступил он там очень несерьезно, так что ему даже
аплодировали. Он говорил с точки зрения ученика, так как сам еще не вполне
уверовал в окончание школы. И такая инверсия взгляда пришлась педагогам
коллегам по вкусу.
Кроме работы Костя очень много времени уделяет мне, разумеется, Таньке
младшей и непременному своему желанию - иметь сына Константина
Константиновича. Кстати, месяца через три мы уже будем точно знать, сын у
нас или снова дочь.
Оля пыталась устроиться здесь в театры, но оказалось, что это все
бесполезно.
На киностудии, конечно, тоже отказали взять в штат. Своих некуда девать, -
ответили.
Больше года ничего не делала она, потом кто-то надоумил ее пойти на
телевидение диктором.
Благодаря стечению обстоятельств Оле повезло, она прошла все этапы сложного
отбора и конкурса и была принята на работу.
- Мама, тётю Олю показывают! - кричала мне Танька из комнаты первое время.
Потом и она привыкла к знакомому голосу объявляющему программу передач на
завтра.
Казалось, что она могла быть довольной своей судьбой – ведь не каждому же
суждено попасть на телевидение. Правда,.были и свои трудности и свои
интриги, но в общем дело обстояло неплохо. Однако глаза у Оли стали
отчужденными, пустыми, в них поселился матовый огонек злости. Прежнее
ироническое отношение к себе, к своей внешности и к миру вообще заменилось
склочными осуждениями о людях и о судьбе.
Оля сильно красилась и казнила себя за то, что не умела в свое время
воспользоваться жизнью.
- Боже, какая я дура была! - говорила она, придя ко мне в гости.- Какая у
меня была возможность. Он мне тогда подавал пальто, после беседы, надел его
на меня, взял так руками за воротник, притянул к себе. А я ему, - что вы, не
надо! Дура. А если бы сказала "да", все было бы у меня прекрасно. И работа и
роли. И я не стыдилась бы как сейчас, когда меня приглашают в ресторан, не
отказывалась бы из-за того, что после всего надо будет рассчитываться и
выложить определенную сумму, а ее у меня просто нет. И ведь что самое
обидное в этом - что на моем месте какая-то деревенская баба не растерялась
и сейчас ходит в золоте и ездит на собственной золоченой карете. Разве это
справедливо? Я не уродина и не дура, а должна почему-то постоянно быть
где-то на задворках, в тени. Иногда подумаешь так вот,
а не послать ли все эти принципы к чертовой бабушке, не переступить ли.
Сколько той жизни! Что, так всю жизнь и проторчать на этом дурацком
телевизоре или, как ты, в зачуханной редакции? Ох, Танька, Танька, дуры мы,
дуры...
Оля, оказывается, жалела меня и считала меня несчастной. Может быть ей это
было необходимо для поддержки себя. Может быть поэтому она стала бывать у
нас дома, у меня, как у подруги по несчастью.
Конечно, трудно понять чего ей не хватало в жизни, почему она постоянно
стонала и начинала, как я заметила, пить тайком от мужа. Я знаю, что
многие ей даже завидовали. Вторым ее мужем стал редактор
новостной редакции телевидения Сергей Ильич. Детей у них не было. Он
был на год младше и у него были
больны родители.
Настроение Оли совсем испортилось чуть ли не до истерики,
когда после года ее работы диктором, в связи с небольшим
производственным скандалом, какие обычно прощались, вдруг вышел
приказ об отстранении ее от должности.
- За вас никто не мог бы что-нибудь сказать оттуда? – жалостливо спросил
директор, показывая куда-то неопределенно вверх.
- Нет, - ответила правду Оля. На что директор, закрыв глаза, беспомощно
развел руками.
А получилось это таким образом.
Как-то за месяц до этого приказа пришла к директору миловидная девушка и
сказала, что она закончила училище театральное и хочет работать диктором.
- Да, но у нас все единицы заняты, - ответил ей директор.
-
Как? - изумилась девушка. - Вам разве не звонили обо мне? - Она еще раз
назвала свою фамилию.
- Нет, - внимательно посмотрел на нее руководитель.
- Тогда еще позвонят, - встала девушка и спокойно удалилась.
И действительно позвонили из такой организации и таким голосом,
что
никак не мог отказать директор, он получил одно из тех предложений, от
которых не отказываются.
И приняли девушку на работу и окружили тут же вниманием и уважением. А
многие стали еще горячее интересоваться футболом, так как муж девушки был
известным всей стране
футболистом. Из тех, что прославляют отечественного производителя, забивая
голы в пользу зарубежных команд. Он был куплен
неким именитым итальянским клубом и даже подарил футболку со своим
номером президенту страны по случаю завоевания кубка.
- Совесть? - спрашивала Оля. - Совесть? А что я с ней делать буду когда
постарею, куда я ее заткну? Что это такое вообще, совесть? Придумают же... Я
понимаю, иметь своё - деньги, машину, возможность путешествовать,
возможность иметь любовников таких, каких хочешь - тогда можно говорить о
совести. А кусать локти и прикрываться этим странным понятием... Не
понимаю...
Оля
пропадала где-то и была в жуткой депрессии, как рассказывала ее мама.
Мы не встречались с ней больше года.
А потом, когда встретились, у меня заболело сердце. Красота ее лица
приобрела некий едва уловимый,
пугающий своей неряшливостью налет. Глаза горели
злым голодным огнем.
И в голосе поселились низкие нотки от постоянного курения.
Мы встретились на улице, помолчали и разошлись, потому что говорить было в
сущности не о чем. Оля медленно и сутуло побрела куда-то в сторону сквера, и
я отметила, что идеальная линия её бедер осталась лишь в моих воспоминаниях,
Я не знаю почему не окрикнула ее, не знаю, почему не остановила. Хотя ничего
сказать я ей не могла, хотя научить жить по-своему или как-то по-другому не
умела. Но мне почему-то стало очень холодно.
Папа мой обожал внучку и, играясь с ней, всегда говорил, что из меня еще
может получиться человек, если я рожу внука. Так остальное все уже есть:
нормальный муж, дом в порядке и умение вкусно готовить.
Особенно чай.
Я уже умею заваривать сорок видов чая. А
готовить, если честно, терпеть
не могу.
Папа забыл, что я собиралась стать писателем, или писательницей.
Я это помнила.
И когда увидела свою подругу детства Олю, поняла, что пришла пора.
Я отложила пухлую папку с повестью незаконченной о любви и села писать
новую, еще не зная о чем, но постоянно видя перед собой глаза Оли
Коростылевой и ее плечи.
Оля объявилась в день рождения моей Таньки. Не сама, правда, а открыткой
поздравительной, но и это было приятно. На открытке был странный адрес:
город Гудаута. И почерк был какой-то незнакомый, лихой и уверенный, не Олин.
Я позвонила маме ее, но и той дома не было, расспросить было некого.
Я достала карту и нашла город Гудауту в узкой полоске тропического климата.
Я представила загорелые голые спины и шум моря...
Через пару месяцев, в субботу вечером, как раз после того, как я уложила
дочь и начала стирать, в дверь позвонили. Костя открыл и, заглянув ко мне в
ванную сказал:
- Это к тебе.
Вытирая руки полотенцем, я вышла.
Передо мной стояла женщина в отличном
платье, в разрезе блузки сиял камень на невидимой цепочке, роскошные
наэлектризованные волосы падали на плечи хищными волнами цвета белого золота
и, казалось, жили совершенно самостоятельной жизнью, отдельной не имеющей к
женщине никакого отношения. Яркие, цвета истекающей соком вишни, губы
улыбались. Это была Оля. И я услышала, как в соседней комнате, у меня за
письменным столом что-то рухнуло, что-то сломалось – это
мой замысел о потухших глазах и подавленной походке был разбит и
уничтожен появлением незнакомой ослепительной Оли.
- Значит так, - быстро начала она, - даю вам пятнадцать минут на сборы. Едем
в дом кино на премьеру. Внизу ждет машина.
Естественно, что никуда мы не поехали и не было никаких сборов.
Олька исчезла также внезапно, как и появилась, оставив два пригласительных
на завтра на какие-то фестивальные фильмы, и дурманящий запах французских
духов.
От подъезда, мы видели с балкона, отъехала серебристая машина и в переднем
окне была видна загорелая
рука с сияющим браслетом.
"Переступила", - думала я назавтра, в баре дома кино, где Оля была
королевой.
И роль королевы очень подходила ей. Словно магнитом она притягивала взгляды
мужчин со всех сторон. Молча и неотрывно следил за ней из угла кто-то
смуглый в велюровом костюме. Мы ушли незаметно. Фильмы нам не понравились, а
в баре было душно и шумно.
- Может быть она и права? - спрашивала я Костю.
- Во всяком случае она теперь на своем месте, - уклончиво ответил муж.
Странное дело, но почему-то совершенно не интересовало меня, чем она теперь
занимается, как устроилась, с кем. Единственное, что меня по-настоящему
задело, это то, как она сказала о смерти своей мамы: "Умерла, отмучалась,
бедолага, и слава богу." Я не знала, что мама Олина умерла и почему-то
чувствовала себя виноватой.
Оля же чувствовала себя свободной.
- Умеет жить, - сказал на все это мой папа.
И я подумала, что может быть я и не стану никогда писательницей такой, как
Вера Инбер или Франсуаза Саган, но не написать об Оле и об её последней
открытке я уже не смогу.
Это необходимо мне, это уже живет во мне и болит, и пока я не освобожусь,
буду страдать и мучиться. Может быть это пригодится когда-нибудь моей Таньке
или другим девочкам, которые растут так быстро и уже останавливаются перед
зеркалом подолгу рассматривая себя и сравнивая с другими.
Последний раз Ольга появилась у меня осенью, когда начинал падать
нерешительный чахлый снег и ветер с ожесточением обрывал с деревьев
последние листья. Она подъехала к дому на мерседесе с
заграничными или дипломатическими номерами. Равнодушно сняла с
заднего сидения сумку набитую шмотьем и предложила мне.
Я конечно же отказалась.
- Ладно, подруга, пусть у тебя пару дней постоит, тебе же не помешает? -
прозвенела Ольга.- Не стеснит? Я как-нибудь на днях забегу...
Оля улыбнулась грустными губами цвета перезрелой вишни.
Взгляд ее невозможно было поймать - чтобы прочесть то, что не называется
словами. Но вокруг ее тонкой изломанной фигуры ощущалось упругое облако
отчужденности. Оно мешало говорить, слышать, видеть.
Когда мы прощались, Оля вдруг бросилась мне в объятия, прижалась всем телом
и заплакала.
А на запястьях позвякивали золотые цепи. Я ощутила ее позвоночник – он
вздрагивал точно так же, как у моей дочери. Что-то горячее хлынуло мне в
сердце, я расплакалась, хотя терпеть не могу этого проявления слабости.
Мы стояли в проеме открытой двери, как в раме, и плакали.
Оля ничего не сказала, отвернулась резко и убежала.
Звук удаляющихся каблучков вниз по лестнице – словно рассыпалось ожерелье из
печального сердолика.
Метафора сквозь слезы,- подумала я.
К очередному Новому году я снова получила открытку от Оли.
На этот раз - с видом морского залива невероятной голубизны и какой-то
витиеватой надписью. На обороте, между двумя почтовыми штемпелями, было
выведено размашистым почерком: "А у нас тут сплошные дожди"...
И вместо подписи всего одна буква - "О".
Или, как сказала моя Танька:
- Смотри, мама, нолик!..
*


Был вечер.
Погода стояла скверная; Том
забрался под навес на старые ящики.
Здесь было прохладно, но
сухо. А главное,- отсюда был хорошо виден широкий поворот реки...
Том как всегда сидел ровно, чуть склонив вбок голову, смотрел на
темно-кровавую дорожку отражения
заходящего в просвет между косматыми тучами солнца. Просвет быстро
затягивался, темнело. В лесу собирался, стекал в низины сизый туман...
Кормила Тома последнее
время Степанида. Если то, что она изредка называла его окаянным сатаной и
вываливала в миску рыбные кости, можно назвать кормлением...
А до этого был Афоня Босов.
Но теперь он совсем захирел и не разгибаясь лежал на печи, тихо кряхтел...
Народ любил смотреть, как
подолгу неподвижно сидели вдвоём Афоня и Том.
И проплывающие мимо
лодочники удивлялись каждый раз, если еще от самой косы не были видны на
знаменитом федоровском бревне две привычные темные фигуры...
Это бревно Афоня помнил еще
огромным стройным деревом; когда они, два дюжих мужика, с братаном Федькой
затеяли строить себе лодку всем на удивление. Потому оно и федоровское, что
ничего не успел он сделать из него, кроме глубокой, оставленной ловким
топором, неуклюжей буквы «ферт».
Удобное это было бревно и
уютное...
Но и шуток было много с тех пор, как приласкал дед Афоня худого и доброго
Тома.
Всё тот же бухгалтер Пантюшкин съюморил как-то у клуба: " Том тебе,
дед, теперь заместо жены будет." И
долго смеялся, юркая глазами на веселых собравшихся мужиков...
Смеялся над ними народ...
Том откровенно не любил
бухгалтера Пантюшкина. Нет, не потому, что был тот маленьким, лысеньким и
кругленьким; не потому, что не было у того трёх боковых зубов, а он как на
зло очень много смеялся жиденьким и трясущимся смехом, не потому, что
нарукавники свои носил тот в папке вместе с бумагами... Просто было что-то в
его маленьких бесцветных глазах бухгалтера Пантюшкина такое, что напоминало
запах старой лежалей рыбы...
Но такой бухгалтер
Пантюшкин был один...
Тут бы и обидеться Афоне. Он хоть и давно Нюрку свою схоронил, но всегда ее
помнил, даже тосковал. А особенно жалел, что забрал проклятый немец у него
единственного сына Тишку. И когда становилось совсем невмоготу, уходил он на
берег, к бревну, где прощались они с сыном самый последний раз, и
откуда видна еще была его веселая тропинка до самой косы...
От долгого смотрения,
казалось, может произойти чудо. Отступит унылая мгла и долгожданный просвет
сможет озарить простор вокруг ясным теплым сиянием.
Афоня не умел злиться, не
умел обижаться на людей, не умел недоброе хранить на сердце...
Теперь он помирал...
Приходили к нему только
Степанида, что по-соседски помогала ему, да Том, который тоже привык к деду
и жалел его. Жалел, потому что Афоня был без одной ноги. Еще в молодости,
как он сам говорил, "заморозил себе ходилку". Гнила она у него, выворачивала
болью все нутро; заговаривали ее бабки, посыпали чем-то, но ничего не
помогало...
А потом стал он учиться
ходить на одной ноге и одной деревяшке. Доктор сказал,
пофартило еще, что так обошлось, а могли бы и всю ногу, по самое
брюхо отхватить, не по-божески, как теперь, под коленку только...
И Афоня жалел Тома.
Было за что. "Андреева рука тяжелая, а нога - пуще..."
У Тома не было одного глаза
и переломана передняя лапа. Не в битвах, защищая людское добро и
справедливость, понес он свои увечья. Не в тяжелых соперничьих поединках
достались они ему.
Это всё память о хозяине. О
покойнике Андрее - геологе.
Потому и остался тут Том,
что навсегда уже поселился в этих местах большой и грубый парень в сапогах,
бороде и фуфайке, который ходил и пел, который любил ходить по земле и
громко петь в лесу...
Том знал, что Андрей
выловил его в реке, куда добрые хозяева выбросили трехнедельных щенков за
ненадобностью...
«Убить Ласку надо... Кобеля
заведем... Только и знает плодить дармоедов…»
И потому терпел Том от
спасителя всё, что выпадало. С готовностью и радостью спешил помогать ему,
упреждал желания, ждал приказаний...
Но проходили они счастливо
только полтора года.
Потом Андрею, по пьяному
делу, показалось совершенно напрасным то, что молодуха Настя, невеста одного
из местных рыбаков, не хочет ночью поговорить с ним о космических ракетах...
Жениху не понравилась прямота Андрея, и он порубил его топором. Соседи будто
бы ничего не видели и не слышали. "Дело молодое, понятно...»
Андрей
добрел до дома. Обливаясь кровью, вспоминая бога и мать, и трижды праведную
душу, он в тупой ярости стал молотить Тома сапогами, схватил за ошейник,
потащил к реке. Но сильно
шатался и быстро слабел. Том молча переносил всё, только взвизгнул высоко и
резко, когда располовинилось видимое – грязный носок сапога выбил из черепа
добрый и любящий собачий глаз.
Потом Андрей дико заорал и
упал в реку... Том услышал странный плеск холодной воды... Больше он Андрея
никогда не видел.
Скверная выдалась нынче
погода... Небо низкое, тяжелое,
беспросветное
У Тома разболелась лапа. Но
он всё равно сидел на ящиках до самой темноты и смотрел на поворот реки, -
не появится ли знакомая юркая лодочка с большим человеком в фуфайке и
сапогах.
Когда совсем стемнело, Том
похромал к дому деда Афони.
О них шутили: "они потому и
сдружились, что на двоих четыре ноги..."
Но ни Том, ни дед Афоня не
обращали на такие шутки внимания
Том не любил только одного человека - бухгалтера Пантюшкина. Рычал даже не
увидев, а лишь унюхав поблизости. Чуял затаенную и подлую, гадкую,
бессмысленную нелюбовь того. Все
остальные жители деревни Тома жалели. Значит любили...
Привычно открыв лбом дверь,
том вошел в избу деда Афони.
Было темно, но с кухни
пахло степанидиным молоком, "принесла"... Том полакал немного и подошел к
деду, лизнул в лоб: он был скользкий и холодный.
Тучи
опустились к самой земле. По грязным улицам и по коричневой реке
заколотили мелкие бесконечные капли дождя...
День кончился...
*


Лишь тому кто
страдал дано умудриться душой.
Нет более верного пути
к знанию, чем поиски ответов на вопросы, которые не дают покоя.
Тревоги и
тяготы
приучают
к
пытливости
неокрепший
ум.
...И
я оказался посреди бескрайнего пшеничного поля.
Вокруг меня колыхалось море-поле.
Настоящее хлебное поле, про которое и в песнях поется, что у него нет ни
начала ни конца. Поле, полностью покрытое спелыми колосьями. Желтое и
тяжелое золотое все вокруг. Стебли клонятся и колышутся под тяжестью зерна.
Они шуршат, шепчутся.
Узкая дорожка выводит меня
на просторный зеленый лужок.
По краям его растут тонкие,
светлые, гибкие березки.
Там, около них на свежей зеленой травке пасется круторогая коровушка
темно-красного цвета с белыми пятнами на животе. Около нее можно разглядеть
совершенно белобрысого мальчонку в белой рубашонке и таких же белых штанах.
Он бос и лежит на травке. Безмятежно спит. Корова пасется и вдумчиво,
медленно привычно жует сочную траву. На другом конце луга, на бережку
маленькой голубой речушки стоит небольшой белый домик с палисадником, как
водится, резными наличниками, высоким крыльцом, колодцем и хозяйственными
постройками. За домом сад и огород. По двору хлопотливо снуют куры, в хлеву
весело визжат поросята, изредка для порядка степенно и важно подает голос
собака. На берегу речки
устроились на отдых белые дородные гуси. Над банькой, что поставлена
в дальнем углу огорода под
развесистой ольхою, вьется струйка дыма – топится, стало быть, банька. В
огороде, на грядках копошится женщина. Она поливает огурцы.
Блузка из простой белой ткани плотно облегает ее статную
фигуру. Пуговка расстегнута,
видна высокая, крепкая белая грудь. Женщина босиком и в белой косынке, юбка
подоткнута. Большие проворные руки справно выполняют огородное дело, и
работа спорится. На заборе сидит погруженная в дрему рыжая кошка.
- Здравствуйте хозяюшка, вы
мне водицы испить не дадите?
- Чего-чего? – услышала
чужой голос женщина, подняла голову.
Немедленно открыла глаза
дремавшая кошка, насторожилась.
- Здрасте вам, говорю.
- И вы будьте здоровы.
Закрылись кошкины хитрые
глаза, она опять спокойно дремлет на заборе.
- Воды, говорю, не дадите?
- Чего ж не дадим…
Дадим воды, коли просите, проходите…
За хозяйкой
направляюсь в дом. Прохожу в сени. В них темно и прохладно. Сытно
пахнет чем-то знакомым, вкусным, хлебным. После солнечной улицы я совершенно
ничего не вижу.
-
А может быть, кваску? – говорят темные прохладные сени.
-
Нет, спасибо, мне бы водички…
-
Водички, так водички.
Слышно,
как звякнула кружка об ведро,
как стали капать в него капли с кружки.
В протянутую руку мне
сначала попала теплая мягкая рука хозяйки, а потом холодная мокрая кружка с
водою. Я стал пить. Вода оказалась такой неожиданно холодной, что заломило
зубы.
-
На здоровье, - хозяйка вышла, в сени ворвался свет.
Потом стало опять темно. Я напился,
поставил кружку на крышку ведра и, вытянув руки перед собой, на ощупь
пошел вперёд. Переступив через порог,
очутился внутри дома. Это была изба. Чисто-белые стены, печь, светлый
деревянный стол, такой же как и скамейки, как пол. На стенах между окон
фотографии в рамках. Чисто и приятно пахнет. Я осторожно прошелся по
комнате, остановился перед красным углом - смотрели на меня глаза
Николая-Чудотворца. С печи послышалось сопенье и кряхтенье. Свесились ноги
большие и чистые с белыми ленточками исподнего. Нога потерлась о
ногу, послышался мощный зевок.
- Ты кто такой?
- Я... это
- Чего говоришь?
- Я… воды...
- Ну и ладно, чего там. В сенях
вот у нас там квасок холодненький, на медах настоянный в жбане
липовом зреет, подай-ка ковшик, раз уж такое дело…
Я нашел в сенях жбан с
квасом, - вот откуда исходил тот дивный сытный запах, - зачерпнул из него
ковшом и подал хозяину. Тот медленно поднес сосуд к губам, крякнул и одним
духом осушил огромный, до краев наполненный ковш. И из груди его вырвался
довольный возглас:
- Ох и хорошо, муха его не
родила…
Потом мы сидели за белым столом и ели
пироги с картошкой, луком, яйцами и грибами.
Хозяин избы - большой русый
мужик с бородой и могучим телосложением, кушал сосредоточенно. Не прерывая
удовольствия, рассуждал:
- Ну почему же плохо, совсем ничего, а главное - это мне самому приятно.
Поработаешь – так и видно, что дело сделано. О!
У меня все есть, что мне только надо: и жена, и изба моя ничего,
да и хозяйство - изрядно. Что еще надо? Пищи духовной?
После выдержанной паузы сам
себе и отвечал:
- Хай ее лошади едять, у
них башка большая.
Хозяин громко хохотал.
Потом сидели в саду под
деревьями и продолжали говорить.
Говорил-то впрочем, только он, говорил о жизни, которая ему явно нравилась,
о деревьях, составляющих сад, о счастливой поре цветения и плодоношения. При
этом с хрустом ел сочные
яблоки. Сидел, расставив ноги, прислонившись к стволу яблони, и ел
большой спелый плод. На бороде и усах его блестели капельки яблочного сока,
он улыбался.
– Не хошь, не верь, но я-то сам точно знаю, что может быть райской и на
земле на нашей наша жизнь, это уж точно. Много ли надо для этого? Ну ясно,
что немало. Но вот
что я тебе скажу, - ты и сам сможешь скоро испытать и понять, что
такое настоящая райская жизнь…
– Я?
– А то.
Налетел порыв ветра, и листья на деревьях отозвались оживленным
шепотом.
– Как это?
– А вот в баньку с тобой
нынче пойдем - сам все смекнешь…
Над банькой, - небольшим домиком чисто побеленным,
голубоватым от добавленной в побелку синьки - вился дымок.
Предбанник был небольшой, уютный, с лавками, широким подоконником, пучками
трав и
вешалом во всю стену – для одёжи полотенец. Из бани тянуло теплом,
мокрым паром. В предбаннике хозяин разделся,
скоро стащил с себя все одежды и, распахнув небольшую крепкую дверь,
пригнувшись вошел в баню. Его громкое кряхтенье и плеск воды немедленно
поведали о том, что он приступил
к омовению и жаром печи доволен.
Дверь отворилась, вошла хозяйка, но раздеваться не стала даже не задержалась
в предбаннике, сразу прошла в баню. Дверь закрыла не плотно.
Через оставшуюся щель можно было рассмотреть, что в клубах пара хозяин лежал
на деревянном полке на животе, а хозяйка шлепала его березовым веником,
иногда окуная в ушат с холодной водой. Потом хозяин крякнул, перевернулся на
спину, и хозяйка шлепнула его веником со всего маху по животу. Хозяин быстро
сел и закрылся, отгородился, защитился руками.
Хозяйка рассмеялась. Мужик провел ладонью по своей бороде и забрал
веник.
- Будя.
Он притянул за талию
женщину к себе, снял с головы косынку. Волосы рассыпались по плечам, точеные
ее руки поднимали их и скручивали в узел на голове. Тело женщины было смугло
и сверкало отсветами оконца, она запрокинула руки и голову назад. Ноги ее
приподнялись на пальцы, а потом и совсем оторвались от пола.
- Поддай парку-то...
На раскаленный камень
вылился ковш холодной воды, и баню затянуло густым пахучим липовым паром.
Потом мы сидели втроем за
столом в избе и пили горячий чай.
Хозяин наливал себе из заварного чайника чаю в стакан, чебрец и мята
ароматами своими наполняли пространство. Доливал кипятка из самовара. Затем
из стакана отливал чуть-чуть
на блюдечко и, взяв блюдце по-особому тремя пальцами, виртуозно
балансируя, придувая
степенно, прихлебывал шумно и смачно пил его с наслаждением. Сахарок
ел вприкуску, хрумтя, разминая им предварительно яркие ягоды клюквы.
Кряхтел, мотал головой и утирался полотенцем.
- Вот я ж тебе и говорю, - Просто противно произносить произвольные
проклятия, -
Вот я ж и говорю, что
только так и можно что-то понять – когда сам все на собственной шкуре
испытаешь, сам испробуешь, по капельке пропустив сквозь себя.
Что человеку для жизни
надобно? Для чистой жизни надобно, чтобы всю, что в тебе есть грязь-то
повыпарить, чтоб не было грязи. Вот и будет тебе чистая райская жизнь. Без
грязи. Смекаешь, какая сила в баньке-то? Банька - это вещь... Шага малого не
достает для полного и окончательного человеческого счастья…
- Какого шага?
- Прям с полка-то со всего маху да в прорубь… У-у-ух…
Да-а-а… Хы-ы-х…
Из красного угла с икон на нас смотрели святые. Задумчиво глядел Николай
Угодник, наблюдал и Пантелеймон-целитель, как бы оценивая, -
все ли верно сказал хозяин про баньку-то и про прорубь,
как составляющую общечеловеческого представления о
счастье. Глаза святого были чисты и грустны, как глаза Марфы мученицы,
как глаза хозяйки, как глаза мальчонки на лугу около коровы, как
озерца в зеленой оправе лугов, как высокое синее небо... Видно было, что в
принципе он не против…
Мы сидели
за столом и пили чай...
*


«Когда человек не знает, к какой пристани он
держит путь, для него ни один ветер не будет попутным»
(Сенека).
Еду на причудливой повозке.
Повозку везет запряженная умело
старенькая лошадка.
Правит ею старичок в длинных одеждах и необычной
угловатой шапке. У него жиденькая бородка и блеклые свисающие усы,
глаза прищурены
и темны, они ничего не выражают, потому что от рождения смотрят на
одни и те же ровные пустынные просторы.
Повозка едет медленно и всё то, мимо чего мы проезжаем, уходит
назад не спеша. Отступают, отплывают вдалеке синеющие горы, ближе, совсем
рядом, откатывается назад
травянистая желтая земля и частые большие камни в ней. На много верст
вокруг не видно ни одного деревца или кустика - все пространство голо и
желто.
Такая же голая и желтая голова моего возницы. Глаза у него узкие, будто в
постоянном прижмуре от ветра, который то налетает на нас внезапно, гудит,
пылит,
беснуется, то бесследно и надолго исчезает, притаивается за холмами.
Ноги старой лошади идут равномерно и степенно, стертые копыта стучат
привычно и устало. Но вот они стали. Я приподнялся посмотреть, в чем дело.
Старик продолжал невозмутимо седеть все в той же позе. Через некоторое время
он безучастно указал палочкой
в сторону, не оборачиваясь ко мне. Я посмотрел в том направлении и
заметил вдалеке одинокое строение, что вырисовывалось на фоне желтого
темным смутным пятном. Стало быть, приехали – надо было понимать.
Соскочив с повозки, я галантно поклонился старику, приложив руки поочередно
ко лбу, губам, сердцу и животу.
Тот мне ответил, слегка наклонив голову и привычно проведя ладонью по
прозрачной бороденке своей. Я отвернулся и пошел в направлении темного
строения. Оглянувшись через несколько шагов, я увидел повозку уже очень
далеко, на подъезде к желтому холму. Еще через пару минут я едва различал ее
на самом горизонте. Лошадка явно прибавила в расторопности. Или просто легче
ей стало тащить повозку без одного седока – пять пудов живого веса - груз
все-таки. Да и под уклон. Я подходил уже к строению. Звуки моих шагов по
сухой желтой земле печатались гулко и отчетливо. Но к ним примешался и некий
посторонний звук, похожий на рокот или раскаты далекого грома. Он быстро
становился громче и яснее. Я успел оглянуться еще раз в ту сторону, откуда
шел и сразу же увидел табун лошадей. Поднимая тучи пыли, он мчался прямо на
меня. Приближался стремительной
живой лавиной. Лошади мчались на
меня. Все заполнилось их движением. Сливались в громовую массу разгоряченные
бегом крупы, отдельные красивые
головы, развевающиеся гривы и хвосты, блещущие глаза и быстрые копыта.
Впритык, рядом пронеслось первое животное, резко свернуло в сторону
долины. Меня обдало горячим запахом лошадиного тела. Табун послушно свернул
круто за своим вожаком. Страшный топот и шум, мелькание копыт, горячая пыль.
Потом я стал видеть это движение
с другой точки,- все больше гривы и мокрые
спины, тела вытянутые в струнку –
словно летел я над табуном и видел
движение сверху. Топот куда-то унесся очень быстро, а я оказался
около того строения, к которому и направлялся. Я оглянулся вокруг, но ничего
особенного не было. Да и табун словно исчез куда-то, только вдали на
горизонте виднелось небольшое облако пыли. Перед юртой был разложен большой
костер и над огнем висел большой котел, в нем бурлило и булькало с шипением
и хлюпаньем жирное варево. У костра, склоняясь, стояла женщина. Лицо ее было
такое же, как и у старика с моей повозки - желтое и с прищуренными глазами.
Она одной рукой при помощи длинной палочки помешивала то, что варилось в
котле, другой рукой прикрывала лицо. Видимо, от жара костра. Я стоял
неподалеку и смотрел, за ее движениями, за языками огня, за облачками пара,
поднимавшимися над большим закопченным котлом.
Женщина только один раз мельком на меня посмотрела, и продолжала
заниматься своими делами у костра. Вдруг из-за юрты показалось четверо
небольших людей, они были в разных, но похожих одеждах и все очень громко
говорили и энергично размахивали руками. У некоторых были кнуты в руках и на
плоских лицах маленькие усики. Они все прошли в юрту, и вскоре
из нее выскочил один, тот что шел впереди. Он раскинул руки в стороны
и резким высоким голосом, очень громко заговорил:
- Да что это такое, сколько
можно возиться, сколько раз просить надо, чтобы всегда все было готово, к
приходу нашему, ну сколько еще ждать, ведь мы устали, а не как ты тут
прохлаждались, давай скорей котел в юрту, ну!!!
Говорил он это все гнусаво, монотонно но нервно и быстро. Женщина
покорно возилась у котла и пыталась с ним сладить. Мужчина скрылся в юрте, а
женщина осталась с котлом, пытаясь его снять с жердины. Однако огонь был
велик, а котел тяжел, ей никак не удавалось к котлу подступиться, чтобы
снять. Из юрты опять выскочил мужчина:
- Да ты что совсем не
хочешь нас кормить сегодня? Чего ты возишься как неживая столько времени,
давай скорее. Мы голодные... Что ты там возишься...
- А что ты на нее орешь? Мог бы просто взять и помочь, видишь ведь, что ей
трудно, и
она спешит, старается...
Тут человек в халате посмотрел на меня и только сейчас, скорее всего, вообще
заметил мое присутствие. Глаза его заметно расширились. Это было следствием
того, что стал он внимательно меня рассматривать. Пристально. С ног
до головы.
Человек несколько раз
хлопнул себя рукояткой кнута по халату.
- Это ты сказал?
- Сказал, что сказал...
Женщина отвернулась.
- А ты чего остановилась?
Неси еду, давай кормить всех, голодные все... А ты тут вообще что делаешь и
кто таков? Так что молчишь?
Женщине удалось ловко снять
котел, и она скрылась с его тяжестью внутри юрты.
- Кушать подано, - сказал я
мужчине и показал на юрту.- Ступай, подкрепись.
Он сначала оставался
недвижим, потом резко, будто вспомнив нечто важное, развернулся и быстро
скрылся в юрте. Я остался под чистым небом.
Внутри юрты по самому центру стоял котел, вокруг него сидели все четверо,
женщина копошилась рядом. Они
руками доставали куски из котла и обжигаясь
совали пищу в рот. Ели сопя и мыча, похрустывая и покрякивая. Жир
капал с усов, щеки и
руки блестели. Только когда один
насытился, отвалился от котла, и женщина подала ему
чашку с жидкостью, он
живо залепетал на непонятном и замысловатом языке. Те что продолжали
трапезу, согласно закивали
головами и рассмеялись.
Я сидел на земле и жевал травинку горькую сухую.
Из юрты слышалось дружное чавканье.
Потом
вышла женщина и вынесла глиняную чашку с дымящейся едой.
Протянула ее мне. Но не успел я благодарно принять угощение, как из
юрты выскочил человечек в халате и проворно ногой выбил чашку из женских
рук. Еда хлюпнулась в пыль.
Щенок рыжей масти мгновенно оказался возле и проглотил нежданную добычу. Я
продолжал сидеть. Но когда мужчина стал кнутом бить женщину, схватив
ее за волосы, поднялся и
подошел к нему. Он не замечал. Бил и визжал. Я спокойно левой рукой
перехватил его замахнувшуюся в очередной раз руку и сильно правой рукой
ударил в лицо. Угодил точно в плоский
жирный нос. Там что-то хрустнуло. Мужичонка упал на землю, быстро поднял
голову, обхватил ее руками и
удивленно посмотрел на меня.
Медленно провел руками по лицу и
глянул на ладони: там была кровь, тонкой струйкой вытекавшая из его плоского
носа. Взвился с земли и страшно громко закричал, точнее, запищал или
заверещал. Из юрты выскочили остальные трое. И сразу пошли на меня со
свирепыми лицами. С их приближением стал расти
и гул, тот же что и раньше – это
несся табун. Когда мужички в полосатых халатах подошли совсем близко,
звук стал оглушительным. И как только первая лошадь пересекла пространство
между мной и ними, я стал видеть небо. Оно было голубое, безмятежное.
Огромное Небо...
И больше ничего…
*

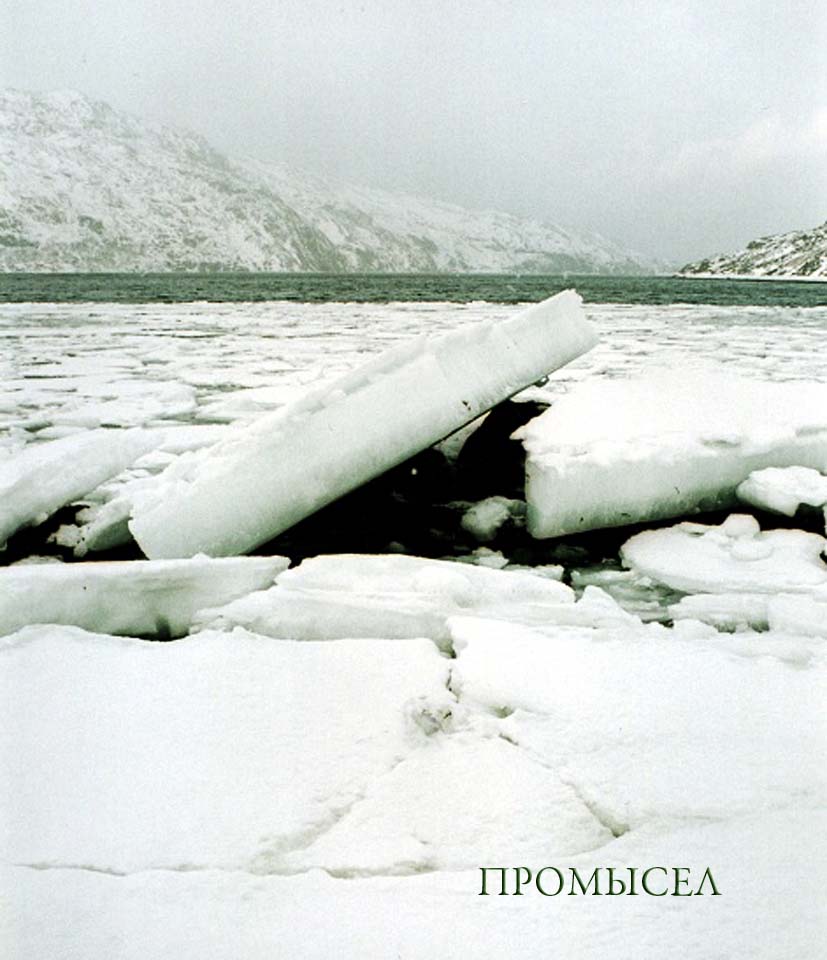
Небо без конца, без края, светлое и
ровное.
Лишь снизу ограничено ровной
узкой полоской горизонта.
Под ногами ровная и бесцветная земля.
Бесконечная бесплодная земля.
Почти без растительности и без
живности.
Лишь редко высоко-высоко в небе
пролетит стая гусей, оставив за собой след крика, оседающий и остающийся на
равнине без конца, без края.
Пятнами по равнине разбежались
небольшие участки мха и снега. Рябая серо-зелёно-белая равнина. И пустое,
непривычно выцветшее небо над головой. Как застиранная голубая рубашка. Но
белого становится все больше и больше. Сначала просто белые пятна попадаются
больше чем прежде, а потом и вся панорама равнины претерпевает метаморфозы:
на сплошном белом фоне можно лишь изредка встретить темные пятна серого или
коричнево-зеленого.
Мне очень холодно посреди всего
белого. Невозможно различить где начинается небо, где кончается земля, где
верх, где низ. Поднимается ветер, и все вокруг смешивается и приходит в
движение. Переворачиваются и меняются местами небо и земля. Как слепой от
глаукомы и катаракты глаз, сквозь матовое облако круговерти из ветра и снега
пытается смотреть на землю солнце. Но оно бессильно. Раскачивается, вспыхнув
на мгновение голубовато-зеленым светом в оранжевом ореоле, и падает
вниз по странной траектории, похожей на траекторию биения сердца на
кардиограмме. Становится и темно еще ко всему. И я сам, как все вокруг,
кружусь по всем осям сразу, а ноги сами все идут куда-то. Сплошное гудение -
как полное отсутствие определенного звука наполняет непроглядную серость.
Потом и звук этого гудения пропадает,
остается только темнота.
Скоро темнота кончается, но не вся
сразу, - в середине черного неба прорезается светло-серая дырка, а по краям
остаётся мрак-темень. И из этой темноты в свет вырывается дым. Пахнет чем-то
горелым и животным старым затхлым и теплым. Я не мог понять, почему такое
маленькое небо и почему к нему летит дым, что стало с тем ветром, почему не
слышно его гудения и снег почему больше не сыплется мне на лицо. Я
присмотрелся и понял, что это не темное небо, а шкуры ограничивают светлую
часть неба. Я поднял руку и увидел, что она тоже в шкуре. Пока я ничего
решительно не понимал. Попытался повернуть голову набок, что-то мешало я
повернулся в другую строну. Прямо передо мною горел костер. Это первое что я
заметил. Привыкнув к свету огня, я различать начал все что было вокруг меня.
Увидел я кучу шкур, которые страшно воняли, массу
странных непонятных предметов, человека около костра в шкурах
наклонившегося над незамысловатой работой, и кусок чистого неба сквозь
отверстие в потолке жилища. Лицо человека было незнакомое, широкое и темное
в отсветах очага. Узкие разрезы глаз и маленький нос, странно узкие
морщинистые губы и блестящие закрывающие уши волосы совершенно черные.
Человек что-то шил из шкур при помощи изящной белой иглы. На коленях лежал у
него очень интересный блестевший бликами огня нож.
Человек
был поглощен своей работой и не обращал на меня никакого внимания. Я
попробовал пошевелиться. Смог.
Все члены слушались меня исправно. Но было тяжело от того, что прикрывали
меня толстым слоем большие шкуры. Попытался высвободиться из-под них, и мне
это удалось. Но стало сразу холодно, я потянулся к пимам, стоявшим около
шкур. Человек поднял на меня глаза и во весь свой большой рот улыбнулся.
Мы сидели рядом около костра, и я пил
из круглой чашки жидкость. Она была тягучая и неприятная, но согревала лучше
костра и давала силы. Что это было, понять
я не мог, -
что-то специфическое местного приготовления – моржовая кровь и
тюлений жир в растопленном снегу. Человек сидел и все улыбался. Я кончил
пить и протянул ему чашку. Он взял ее и закивал головой. Заговорил что-то на
языке мне не попятном и похожем на детский лепет, я тоже закивал головой,
хотя не понимал что это означает. А человек мне протянул опять мою чашку
наполненную жидкостью - он видно подумал, что я не наелся. Я отрицательно
замотал головой. Он понял и сам выпил все содержимое. И продолжал шить
что-то из шкур при помощи большой белой иглы. Я встал и осмотрелся вокруг.
Такого обиталища, жилища ранее я никогда не видел. Все было сплошь покрыто
шкурами. Я обходил вокруг костра и смотрел на стены, надеясь заметить что-то
что бы дало мне возможность выхода, но ничего не заметил. Посмотрел на
отверстие в потолке. Ну не туда же они выходят.
А человек все сидел и шил. Когда он
поднял голову и опять мне заулыбался, я показал ему в сторону стены, что мол
хочу выйти посмотреть на свет. Человек встал, придерживая рукоделие, с него
свисали порезанные
шкуры самых разных цветов, и раздвинул стену, в глаза мне ударил
яркий свет и холод. Я поспешил выйти. Человек остался. Все что можно мне
было увидеть - был снег. Всё пространство вокруг было покрыто снегом. Ветра
не было, синее небо и очень белый искристый и чистый снег. У меня потемнело
в глазах от такой белизны. Я обернулся на жилище из которого вышел. Это было
довольно жалкое зрелище. Из снега проглядывала только часть хижины для входа
и верхняя для отверстия, все остальное было покрыто снегом. С
противоположной стороны от входа образовался целый холм снега, который
дальше переходил в волнистую равнину белую и однообразную. И лишь на самом
горизонте, что был очень четко виден, равнина
ломалась на белые грани далеких возвышенностей. Маленькими зубьями
белыми и острыми ощетинился горизонт.
А с другой стороны горизонт был темный
и ровный, оттуда дул ветерок.
От входа жилища и в сторону белых
зубьев уходила цепочка следов. Она терялась только когда вбежав на холмик,
спускалась на другой стороне. Я осторожно пошел по ней вглубь снежного
пространства. Шаг за шагом -
и передо мной
следы и за мною тянется цепочка следов. Вдруг передо мной, словно
вырос из снега, появился человек весь
в шкурах тянущий санки за собой. Человек мне улыбнулся и похлопал по плечу,
широким жестом показал на свои сани - смотри мол. На санях лежала туша
огромного животного с ластами и усами. Во весь бок зияла рана и теплилась
еще остывающая кровь. Человек посмотрел на меня, подошел и острым блестящим
ножом, точно таким же, как у того в жилище, отрезал от раны ломоть свежего
розово-кровавого мяса и протянул мне. Я взял и стоял, не зная что делать
дальше. Человек отрезал и себе большой кусок и стал есть его, причмокивая
радостно и улыбаясь мне. Я смотрел то на него,
то на кусок свежего мяса.
Потом мы сидели в хижине вокруг костра
и ели жаренное на угольях мясо. Хозяева мои улыбались и кивали, когда я
откусывал от большого куска и долго жевал. Костер все горел, дым валил в
отверстие в потолке.
Мы с человеком, которого я встретил на
цепочке следов, пошли опять по ней. Человек тащил за собой сани я шел за
ним. Мы подошли к ледяному берегу, около которого качалась на привязи легкая
лодчонка сделанная из шкур морских животных, натянутых на костный остов,
ладно сшитая, богато украшенная орнаментами, яркая и красивая. Я сел в эту
лодку на меховую подушку. Человек из саней переложил
ко мне в лодку привезенные припасы и дал мне весло с лопастью из
лопатки моржа. Улыбаясь во весь
рот, проводник мой оттолкнул лодчонку от берега, она с легкостью пушинки
заскользила по зеркальной поверхности залива.
Я помахал ему на прощание, и он стал стремительно удаляться,
уменьшаться у меня прямо на глазах. Скоро он вовсе исчез из вида и
слился с белым по всему горизонту пространством.
Я уплывал от него.


Слева и справа от меня проплывали
огромные туши белых айсбергов, с шумом обрушивая в воду подтаявшие глыбы
льда и обдавая меня брызгами холодной воды. Между двумя столоподобными
льдинами шевелилась спина кита, изредка извергая фонтан воды. Я подплыл к
нему и слегка прикоснулся кончиком весла к шероховатой коже спины. Никакой
реакции не последовало. Тогда я сильнее нажал, затем несильно ударил плашмя
веслом. Кит почувствовал и нырнул. При этом так вильнул хвостом, что я
отлетел от него на гребне волны с огромной скоростью и на большое
расстояние. Надо мной носились тучи
белых чаек и стремительных серых птиц с огромными острым крыльями и
длинными клювами загнутыми на конце. Они со свистом рассекали надо мной
воздух и кричали пронзительно и часто, некоторые ныряли прямо около моей
лодки, сложив крылья, и выныривали с серебристыми рыбками в клювах. Вода
была так чиста, что я видел все, что творилось в ней на глубине многих
метров. Как большие рыбы охотились за маленькими и как маленькие удирали от
больших. Разноцветным и пестрым ковром плыло подо мною дно. Порою нечто
большое и серое шевелилось в глубине. Всплывали пузыри воздуха, и под
проплывающими льдинами в виде
сказочных чудовищ, шевелились
многочисленные щупальца похожие на змеиные головы.
На плоской льдине отдыхала, сверкая боками, голубая рыба. Показалось,
что будет легко и просто добыть
этот вкусный трофей – только протяни руку. Но на самом деле даже к плоской
льдине оказалось, что не так-то просто было подобраться. Долго и настойчиво
следовало грести, пробираясь меж мелких льдин и густого снежного месива.
Стало смеркаться. Шкуры я еще раньше с себя снял, сложил в носу лодки. В них
удобно было закутываться, зарываясь с головой.
Изредка в темноте было слышно, как кто-то большой
дышал и стонал протяжно. В один из серых дней оказалось, что все
припасы закончились, и кроме шкур в лодке почти ничего не было. Трепыхалась
удивительно живучая и на привязи голубая рыба, и лежали кости скелета
недавно съеденного морского обитателя. Небо сделалось значительно чище. Вода
стала светлее, и дно казалось ближе. Птиц не было видно и слышно.
Лодка, выбравшись из ледяных заторов. Оказалась в бескрайней водной
монотонности. Я плыл, лежа на дне лодки своей, отдавшись на волю
ветрам и течениям. Почти нагишом. Иногда созвездия огромных мерцающих светил
нависали над утлым моим суденышком, словно удивляясь, как такое сомнительное
из шкур скроенное плавсредство может
противостоять необузданной бескрайней океанской стихии. Потом
мелькали ослепительные дни и
вновь наступали короткие
непроглядные ночи. Время
перестало существовать. И потому для меня было совершенно неожиданным
появление совсем близко от меня парусной шхуны под черным "Веселым
Роджером".
У борта сгрудилось человек двадцать в
живописнейших нарядах ярких и пестрых. Они все смотрели в мою сторону и о
чем-то между собой оживленно говорили, показывая на меня пальцами. Часто
слышался смех и выкрики грубыми голосами. Эти люди легко подняли меня к себе
на корабль вместе с моей лодкой и всем, что там было. Я сидел в лодке на
палубе незнакомого судна. Вокруг стояли
загорелые, обветренные мужчины и смотрели на меня. Я смотрел на них.
Все лица были интересны и
по-своему симпатичны. Многие заросли длинными волосами, которые были
откинута назад и закреплены ленточками или сдерживались маленькими головными
уборами в виде профессорской шапочки. У двоих вместо глаза была повязки.
Многие были голыми по грудь, некоторые в разодранных тельняшках, кое кто в
кожаных безрукавках. И лишь один молодой человек был одет в чистое и
светлое. Его длинные светлые волосы были просто зачесаны назад и развевались
на ветру.
Синие глаза смотрели насмешливо. Руки
лежали на ремне из желтой кожи, на котором висел нож и крупная жемчужина.
Был он босиком, но в белой рубашке с распахнутым воротом и закатанными
рукавами. На шее развевалась пестрая косынка. Загорелое его тело привлекало
выпуклостями мускулов, что так и играли под одеждой. На левой руке блестел
браслет в виде золотой ящерицы. Остальные члены экипажа были грязнее и
темнее его. С волосатыми грудями и черными как смоль волосами с широкими
ремнями и блестящим оружием. Рядом с молодым и светлым стоял огромный и
совершенно черный. Один из тех у кого не было глаза. Вместо правой руки у
него был приделан железный пугающий крюк с выгнутым острием. Он стоял,
подперев этой рукой бок и смеялся сотрясаясь всем своим огромным телом. Я
сидел в лодке и не мог сообразить что же мне делать. Кто-то уже пробовал
примерить мои шкуры, но они от воды разлезались под руками и вызывали взрывы
смеха. Все на корабле были веселы.
Кроме, может быть одного меня. Я сидел
и ничего не предпринимал. Ноги мои затекли, онемели. Потом на меня
напялили огромную широкополую шляпу черного цвета и затянули в
широкий пояс. Я не сопротивлялся. А молодой и белый все стоял и смотрел
улыбаясь. Потом он крикнул громко: Хватит,- и поднял руку. Все расступились
и отошли на одну сторону. Я стоял около лодки один против них всех. Молодой
белый посредине. Од поднял обе руки - все отвернулись. Потом что-то гаркнул,
но что я не понял, потому что сразу же после этого его выкрика все
развернулись и вместе выстрелили в меня. Шляпа моя налезла мне на шею - так
ее верхнюю часть изуродовали искромсали пулями. Мне обожгло ухо, с него
капала кровь. Молодой белый вышел немного вперед и выстрелил в матросов.
Один из них упал. Его тотчас же подняли и бросили за борт. Никто больше не
улыбался.
Мы сидели с белым в его каюте.
Обставлена она была очень оригинально и ярко. На стенах висели рядом с
красивыми полотнами известных мастеров, цветные изображения голых женщин. С
потолка спускалась золотая цепь и на ней болтался желтый череп с вставленными
в глазницы голубыми камнями в оправе из белого металла, на полу валялась
огромная и яркая шкура тигра с головой и когтями. Над входом на стене
красовались всевозможные пистолеты, сабли, ножи, топорик с длинной ручкой и
лук с колчаком стрел. Маленькое круглое оконце было завешано голубой шторой,
освещая столик и кровать и кресло - всю мед бель каюты. На столе лежали
всевозможные бумаги» стоял чернильный прибор с ручкой в виде змеи и
крышечками - черепами. Деревянная койка, приделанная к стене была аккуратно
застлана. Полка над ней была заполнена почти полностью книгами. Он сидел под
этой полкой на кровати, а я в
кресле. Он отщипывал от грозди винограда по одной ягоде и клал их в рот,
полуприкрыв глаза.
В каюте боцмана - того что вместо руки
имеет железный крюк - постоянное общее веселье. Она разительно отличается от
каюты белого.
На стенах вразброску висят языческие
маски и сабли, расписные фарфоровые блюда и топоры, в углу на шесте череп
лошади в шляпе.
Посредине огромный стол и за ним сидят
почти все те, что были на палубе. Под шестом стоит граммофон с раструбом и
изрыгает нечто очень веселое. Стол завален всяческой снедью и бутылками, из
которых, прямо из горлышка пьют. Сам боцман сидит на роскошном троне во
главе стола и пьет из большой бутылки. Стоит шум от одновременного крика
сразу всех, звон бутылок и лязганье металла.
Белый красиво ест виноград и смотрит
на меня. Я отщипываю последнюю ягодку со своей грозди винограда и он
говорит:
- Понимаешь, они только сила и больше
ничего. Вот ты видел Камень - это тот, что с крюком, он уж двадцать лет
плавает, говорят, что и рожден он был на море, и больше десяти лет всегда
был главным, понимаешь, он сильнее всех, но вот уже скоро три года, как он
таит на меня свою злобу, потоми что я моложе его и, может, слабее, а он
должен мне подчиняться. Остальные хоть и сильны, но намного слабее его. А он
– настоящий морской Камень.
- А почему он должен подчиняться, раз
сильнее?
- Его только боялись все, а мне
некоторые верят и по-своему уважают. Он ни прочитал ни одной книги за всю
свою жизнь, но море он знает превосходно. Настоящий морской Камень.
- А за что ты убил того на верху?
- Это у нас уже год так проверяется.
Мы кого-нибудь или ловим или находим "под шляпу" и сбиваем ее. Он промазал.
Мог бы промазать при деле. А этого нельзя.
- За это тебя и любят они, что ты им
не даешь промахнуться?
- Я этого не знаю. Но у нас все идет
прекрасно с тех пор как мы стали серьезно все делать, а не так, как раньше –
что попало и как придется. Да и сейчас много такого же, но все же...
- Тебе это все нравится, если уже три
года?
- Скучно мне, пойми правильно, а тут я
забываю об этом. Риск и море, море и риск. Это дает повод испытать вкус
жизни и в конце концов понять. Что такое
сама жизнь.
- А раньше?
- А про раньше я забыл – скука.
- Почему ты сейчас не со всеми?
- Даже тебе всего знать не полагается.
Понял?
У боцмана все пили по-прежнему, правда
людей стало меньше за столом.
Но те, кто еще сидел - пили. Граммофон
умолк. Шляпа съехала черепу на самые глазницы. На столе валялись пустые
бутылки. Боцман все сидел на своем троне и тупо смотрел
на пустую бутылку. Кто
сидел за столом пытался еще шуметь, но получалось вяло, бессвязно и
нечленораздельно. Но боцман, видимо,
хотел полной тишины. Со
всего маху трахнул своим крюком по столу так удачно, что попал по краю блюда
с крабами – получился салют из красных панцырей.
На дощатом столе тоже все
подскочило, попадали пустые бутылки. Боцман во все горло гаркнул:
- Тихо, он думать будет!
И извлек откуда-то из-за кресла
маленького тщедушного лысого человечка в черных одеждах с огромной книгой и
в очках круглых и плоских.
Боцман посадил его на стол против себя
и стал смотреть на него.
- Думай, ну!
Человечек открыл книгу, склонился над
ней и приставил палец ко лбу, закатил глаза.
- Молодец!
Боцман похлопал его по лысине и дал в
руки огромную бутылку.
- Люблю я тебя, пей. Никого не люблю,
тебя одного люблю, пей, Аон...
Я сидел в каюте боцмана и листал
книгу. Рассматривал красивые картинки. Череп раскачивался на цепи и смотрел
на меня своими каменными голубыми глазами.
Я посмотрел на него. Почему он раскачивался? Я взял его обеими руками
и посмотрел прямо в глаза.
В них я увидел чьи-то живые очень
красивые глаза, они смотрели на меня. Я оттолкнул от себя череп, и он опять
закачался на цепи. Я вспомнил, что уже видел камень похожий на глаз этого
черепа.
Бросил взгляд на стену и в самом деле
там висел кинжал с вделанным в рукоятку камнем. Я снял кинжал и стал
рассматривать его. Но ничего особенного не увидел. Когда же я решил повесить
его на место,
он никак не слушался,
и мне
пришлось надавить чуть сильнее. Стол отодвинулся, открыв ступеньки
ведущие вниз. Я пошел по ним. Это была винтовая лестница. Она привела меня в
меленькую каютку очень чистенькую и очень розовенькую. На постели лежала
девушка, она спала. Во сне она была просто прекрасна. И даже
чему-то улыбалась. Я поспешил назад и поправил кинжал на стене. Стол
встал на место.
Я сел в кресло.
Тут же дверь открылась и вошел белый. Он был весел, улыбался.
- Ты чего сидишь,
иди погуляй, осмотрись , ознакомься.
Только будь внимателен и осторожен.
Я вышел, ничего не сказав ему про свое
открытие.
На палубе было тихо. Лишь едва
заметный шум волн, да легкий скрип мачт нарушали полный покой. Около борта
спал, раскинув руки, рыжебородый
матрос. Рядом покоилась опустошенная темно-зеленая бутылка. Я сидел на
корме, прислонившись к борту. Хищно улыбался на черном полотнище Веселый
Роджер, предвещая новые походы и схватки. Поблескивали надраенные медные
детали корабельной амуниции.
Натянутая нить тишины лопнула внезапно: как по команде на палубе
явились, забегали сразу несколько матросов. Все они были возбуждены, хищно
азартно улыбались, поглядывая за борт.
От шума и топота по палубе проснулся рыжебородый. Потянулся к своей
бутылке. Предо мной пробегали матросы. Глаза их сверкали. Трубки дымили.
Видно было в открытом море вдалеке плыло какое-то судно. Небольшая
трехмачтовая посудина. Боцман стоял, опершись о левый борт, и смотрел на
нее. Ему притащили подзорную трубу пугающих размеров, установили на
специальной треноге, и он стал внимательно рассматривать корабль. На
лице его никакие эмоции не отражались, будто
видел он перед собой обыденно унылый пустой горизонт. Тем временем
матросы суетились. Ловко ставили паруса, натягивали канаты, бегали, что-то
таскали, выносили, готовили. Белого не было видно. Я отошел от борта и
спустился в каюту. За стеной послышался крик: "Капитана сюда!"
Сквозь стекло иллюминатора было видно, что трехмачтовое судно, с
которого, по всей видимости, тоже рассмотрели наш парусник, стало
разворачиваться, менять курс, и
уходить, развевая зеленым флагом. Боцман еще раз проревел: "Капитана на
мостик!" И повернувшись к штурвалу, рулевому
показал рукой в
направлении уходящего судна. Команда, сжавшись до указательного пальца
бывалого боцмана, всем была ясна без слов. Мы устремились в погоню за ним.
Скорость нашей шхуны была выше. Буруны брызг летели разрезаемые острым,
окованным железом носом. А за кормой оставался шипящий и белый кильватер,
как прямая дорога к победе. Трехмачтовик
увеличивался в размерах - мы уверенно догоняли его. Я стоял среди
матросов прямо на носу судна и
увлекшись смотрел вперед. Все были вооружены. До судна оставалось совсем уже
немного, матросы потирали руки, присматривались к возможной добыче. Мы
подходили все ближе. Напряженное ожидание сгущалось и нарастало с каждой
минутой. И тут воздух прорезал истошный вопль: "Камень, корма!!!" Все разом
обернулись и увидели, что за кормой у нас, двигаясь на полном ходу, были три
мощных вооруженных корабля, под зелено-красно-полосатыми флагами с золотой
короной посредине. И откуда они могли тут взяться столь внезапно?
Глаза матросов округлились, рты пооткрывались. Кто-то немедленно
бросился с оружием на корму.
Корабли надвигались на нас молча и грозно. Хорошо организованная и
продуманная атака по всему фронту. Уйти нам было некуда да и невозможно. Я
заметил на лице боцмана странную злорадную улыбку. Он нервно потирал свой
крюк.
-
Эгэй, все!!! - послышалось с
капитанского мостика и прогремел выстрел.
Это был Белый. Он стоял на мостике, в
руках у него было по пистолету, они еще дымились. Все смотрели на него.
-
Кого мы испугались? Полосатых? Они же тюфяки известные! Все ко мне! - и он
что-то поджег у себя на мостике.
Рядом с ним стало подниматься что-то
белое, шевелящееся.
Корабли наступали на нас теперь уже
медленнее, они были близко.
Белое все поднималось и разрасталось.
Скоро над палубой висел огромный белый шар. Сеть которая его охватывала со
всех сторон прикреплена была к шлюпке. Матросы сели в нее и шар поднялся. Я
стоял и смотрел. Корабли были совсем близко. У бортов стояли матросы и
офицеры в парадной форме с золотыми галунами, аксекльбантами, орденами и
плюмажем. Задрав головы, все смотрели вверх на шар. У многих были разинуты
рта от удивления и неожиданности. Шар поднимался все выше и улетал в
сторону. На пустом мостике вился дымок и лежали два пистолета. С трех
кораблей стали палить из пистолетов в ярости и недоумении. Но с шара
слышался только смех, и прозвучал всего один ответный выстрел. Офицер со
сверкающими звездами на мундире беспомощно упал, успев схватиться
за продырявленный лоб. Еще яростней
стали стрелять с кораблей, но шар неудержимо удалялся,
Я вошел в каюту Белого, подошел к
кинжалу, остановился напротив него. Я уже знал, что надо делать.
Ночь скрывала меня в лодке. Вода была
черной, как ночное небо, а небо было, как вода, И лишь серебряные поплавки
отраженных звезд разбивали полный мрак ночи. Я старался грести как можно
тише. В корме лодки лежала закрытая покрывалом девушка из тайника белого
капитана. Весла погружались из воздушной темноты в водяную почти бесшумно и
двигали нашу лодку в неизвестном направлении.
Яркий и жаркий день. Я все гребу,
устал и вспотел. Девушка сидит и смотрит на меня. Руки мои сжимают весла и
гребут механически. Я бросаю грести. Смотрю на ладони, они
стерты до пузырей. Девушка их мне обматывает белыми лоскутами,
разорвав на себе что-то из одежды. Боль утихает. Она сама садится на мое
место и хочет грести, но у нее ничего не получается. Она подсаживается ко
мне и гладит руки. Улыбается, а в главах стоят слезинки.
-
Почему тебя не взял с собой капитан?
-
Какой капитан?
-
Тот, у которого на корабле ты жила.
-
Я не знаю.
-
А почему он не показывал тебя?
- Он меня
похитил, просто украл и силой сделал своей женой.
- Остальным не разрешалось иметь жен
на корабле.
- Он - главный...
- И что ты так вот и жила в тайнике в
этом?
- Так и жила. Скука одна.
- А капитан, он же не скучный.
- Капитан только одного от меня и
хотел. Какое ему дело до того, что мне скучно. Все больше молчал или
ласкался. Скучно.
- Он тебе нравится?
- Кто?
- Капитан.
- Когда приходил и делал со мной
полусонной все, что ему хотелось? Кому это может понравиться.
- Он симпатичен. Весел. Обходителен.
- Да. Забавный. Приятно, да, но не
надолго. А потом сиди одна. Я всерьез
готовилась к забастовке, но он не обращал внимания на меня, на мои
слова, я – просто добыча, боевой трофей по имени женщина. Можно запереть и
не слушать.
- А во имя чего забастовка? Чего б
тебе хотелось добиться?
- Свободы, свободы, свободы.
Дышать свежим воздухом и самой делать все что хочется.
- Так и не поддавалась бы.
- Он сильный.
Она сидела против меня и вдруг
подскочила, вскричав.
- Земля! Берег! Земля!
Она бросилась мне на шею. Мы
приближались к суше. Вдали над синевой горизонта явно прорисовывался зелёный
мыс берега. Девушка прыгала от радости. Лодка наша качалась. Я сел на весла
и стал изо всех сил грести. Берег был уже совсем рядом. Уже виднелись холмы
пустынные и неприветливые правда, но это был берег, твердь, земля, суша.
Каменистыми уступами он обрывался кручами
в воду. Приставь лодкой
было просто невозможно. Волны бились у стены отвесного берега, образовывая
буруны и водовороты. Я поплыл
вдоль берега. Но стена обрыва была длинной. Сколько видел глаз - все
крутая стена и белизна
бурунов волн разбивающихся у его
основания. Девушка плакала. Просила подплыть к стене чтобы выйти на берег. Я
не останавливался.
Она встала и прыгнула со слезами в
воду. Поплыла к берегу.
Я прекратил грести и стал смотреть на
нее. Она часто терялась из виду за возвышенностями волн, но потом опять
появлялась. Но вот она подплыла совсем близко к берегу и плыла уже по пенной
и бурлящей воде, появляясь на мгновения среди этого круговорота волн. Вот
она подплыла к самой кромке берега и стала выбираться. Ее несколько раз
смывало волной, но она упорно карабкалась. И сумела зацепиться. Вышла из
воды. Стала взбираться по откосу. К счастью в этом месте он был не столь
отвесным, как в других местах. Шаг за шагом она поднималась все выше и выше.
Вот ей осталось совсем немного. Я смотрел с напряжением за ее продвижением.
Последний шаг, чуть не оступилась она. Но вот и все. Она на верху. Встала и
подняла руки. Машет мне, вся мокрая и грязная. Смеется, Я не слышу ничего
кроме шума ударов волн в скалы.
Она стоит и машет мне. Я подгребаю поближе к берегу и прыгаю в воду.
Понимаю, что навсегда оставляю лодку, и назад дороги уже не может быть.
Плыву и задыхаюсь от соленых брызг. На высокой волне проплываю мимо двух
скал и
оказываюсь на прибрежных камнях. Начинаю взбираться наверх. Осколки
камней сыплются из-под ног. Каждый шаг дается
неимоверными усилиями, но в конце концов получается. Вот осталось
совсем немного. А шум моря грозно и тяжело висит за мной. Последнее
движение, и я наверху. Я встал, тяжело дыша. Глаза мои искали девушку, но ее
нигде не было. С ужасом я заметил лишь ее ожерелье в пыли на земле и лоскуты
ее платья. А в нескольких метрах от меня в тени
замшелой скалы шесть гигантских серо-зеленых ящеров возбужденно
что-то пожирали. Из-за камней внезапно появилась еще одна такая же
плотоядная рептилия, глянула
холодными змеиными желтыми глазами и, стремительно перебирая мощными
когтистыми лапами, бросилась на меня. Единственное, что я успел заметить -
хищную пасть с огромными загнутыми внутрь зубами и длинный язык с
синими прожилками. Не раздумывая, я бросился с обрыва вниз, обратно в море.
Мне и тут повезло – я упал между скал, лишь плечом едва коснувшись скользкой
поверхности. Сомкнулось над головой бурлящее море, подхватило меня и
поглотило.


Когда я открыл глаза, надо мной
склонялись три головы. Тонкие
темные лица в белом обрамлении. Огромные прямые брови придавали глазам
зловещий вид. Над головами
горело солнце. Меня положили поперек седла на коня такого же черного, как и
брови людей. Они вскочили в седла и помчались вдоль склона, оставляя за
собой шлейф пыли и топот копыт по твердой земле. Через некоторое время
скачка внезапно обрывается – всадники останавливаются все вместе дружно и
очень резко, словно по команде, в живописнейшем саду с павлинами и огромными
цветущими деревьями. Это дикие магнолии.
Я падаю с коня на ковер из увядших
лепестков. Меня поднимают и несут к
виднеющемуся между стволами деревьев строению. Тройные розовые
колонны устремлены вверх,
поддерживают фриз украшенный горельефами. Перед арочным входом стоят два
огромных темнокожих стража в набедренных повязках со сложенными на груди
руками. Меня несут на носилках четверо всадников. Пятый идет впереди,
развеваются полы его белых одежд, будто паруса. Изловчившись, я сажусь на
носилки и смотрю. Прямо над аркой изображена лодка и в ней шар с лучами –
солнце. У одного из стражей, что стоят сложив руки, замечаю на пальце
перстень с красным камнем. На занавесе расступившемся перед нами изображен
длинный меч с широким клинком и
красным острием. Мы останавливаемся перед большой светлой дверью,
разукрашенной красными линиями. Ручки у нее нет, на ее месте изображение
меча с красным острием. Над самой дверью маленькое изображение лодки с
шаром-солнцем. Пятый всадник исчезает бесшумно за кулисами в глубине
помещения. Носилки не ставят, все держат на руках. Дверь распахивается. Люди
в белом склоняют головы и медленно вносят меня в большое помещение с
продолговатыми окнами под самым потолком и рядами колонн по стенам. Потолок
расписан во всю ширь изображением круга с лучами, на стене висит большая
просторная клетка с розовой птицей внутри. Люди в белом ставят на пол
носилки и покидают помещение.
Я встаю с носилок. Ко мне подходят два
полуголых, обритых наголо стража и берут под руки. Стена прямо перед нами
сама собой расходится и открывает огромный светлый зал с мраморным мозаичным
полом, сферическим куполом украшенным
всевозможными драгоценностями и монументальным троном в самом центре.
Вдоль стен стоят несколько фигур в белом со склоненными головами. На троне
кто-то восседает. Меня ведут прямо на него. Останавливают в нескольких шагах
от трона, ставят на колени. На троне сидит человек со старческим дряблым
лицом и жидкой бородкой, весь в
драгоценностях и с закрытыми глазами. Убранство его с головы до ног расшито
сияющими каменьями всех оттенков – от солнечных аметистов до алых гранатов и
рубинов, от иссиня-зеленых изумрудов до фиолетовых топазов. Те, кто привел
меня сюда, исчезли. Человек на
троне долго сидит недвижно. Затем открывает глаза и смотрит на меня
бесцветным взглядом. Заговорил
он неожиданно странным сильным голосом:
- Нам нужен один кувшин чистой крови.
Сказано это было в пространство, в
никуда, но взгляд по-прежнему был направлен на меня. И потому я
поинтересовался:
- Вы это, простите, мне адресуете?
- Нам нужен один кувшин чистой крови.
- Очень хорошо. Но я тут при чем? Мне
что до этого?
- Эту кровь дашь
ты, иноземец.
- И
всё?
Он сделал знак рукой и меня сзади
взяли за руки и отвели назад в ту большую комнату с розовой птицей.
- О, владыка! Да продлит продлеватель
дней дни твоей жизни, - пал на колени один из тех воинов, что стояли вдоль
стен. Не поднимая головы, заговорил четким и негромким голосом.- Иноземец
молод и в нем всего два кувшина крови, он не может дать целого кувшина.
- Встань, Хакаф ад Убейль.
- О, владыка!
Владыка встал со своего трона и,
грозно сверкнув драгоценными каменьями своего убранства, громко проговорил:
- Я иду!
Все пали ниц лбами на мозаичный пол,
протянув при этом руки вперед ладонями вниз. В зал ворвались пронзительные
звуки огромных труб и бой десятков походных барабанов. Владыка бесшумно
прошел по залу к стене и скрылся в ней. С ним вместе зал покинули и
оглушительные звуки. Остались лишь павшие ниц люди в белых одеждах.
Владыка входит в свою комнату, она вся
задрапирована пурпурно-алыми тканями. С потолка свисают красные, шитые
золотом куртины, в углу стоит гигантский цветок с пурпурными лепестками и
большими саблевидными листьями. По середине стоит меленький роскошный трон
сверкающий золотом. Владыка садится в свой трон. Появляется из-за тканей
обнаженная девушка с подносом на голове. Она медленно подходит к владыке и
ставит к его ногам золотой поднос с прозрачным сосудом, наполненным
огненно-красной жидкостью. Склонившись, она ждет. Взгляд владыки равнодушно
пробегает по ее молодому телу и
останавливается на сосуде. Рука владыки делает знак удалится и девушка
покидает комнату, исчезает за тканями. Владыка хлопает в ладоши. Появляется
женщина в красных просторных одеждах расшитых золотым орнаментом в виде
листьев и колосьев. Она подходит к владыке. Он встает и поднимает руки.
Женщина снимает с него белые одежды,
обнажая тело старца морщинистое и блеклое с оттенками синего и
натягивающими кожу костями колючими и маленькими. Владыка остается в одной
набедренной повязке. Он становится на свой трон и поднимает руки. Женщина в
красном наклоняется к подносу, поднимает сосуд с огненно-красной жидкостью.
Владыка берет его своими прозрачными руками украшенными четырьмя перстнями и
долго держит перед собой. Потом медленно подносит сосуд к губам. Глаза его
закрыты, губы тянутся к жидкости. Вот губы и край сосуда соприкасаются и
огненно-красная жидкость медленно начинает вливаться в рот владыке. Все
скорее и скорее пьет владыка большими глотками. Усиленно работает его кадык.
Крупные капли жидкости потекли по щекам и подбородку,
на грудь, окрашивая ее. Пальцы владыки впились в прозрачное тело
сосуда. Последние капли стекли с поднятого над головой кувшина в рот
владыке. Он стоит во весь свой рост на троне запрокинув голову, его шея и
грудь окрашены в огненно-красный цвет. Женщина в красных одеждах
распростерлась внизу у подножия трона головой на подносе, протянув руки
вперед к ногам владыки.
Темные каменные своды освещаются
только маленьким квадратным окошком, расположенным высоко вверху. Стены
сырые буро-серые мрачные, страшные. В одном углу этого каменного помещения
копошится седой старик в
черных одеждах. Длинные прямые его волосы и длинная всклокоченная
борода абсолютно белы. Я сижу у стены на подстилке и смотрю на него. Старик
вытирает руки белой тканью, которая от этого становится красной. У ног его
стоит медный таз наполненный огненно-красной жидкостью и пустой, такой же
как у владыки хрустальный сосуд. Недалеко от ног его лежит остывающая голова
лани. Старик кончил вытирать руки и подходит ко мне. Жестом поднимает меня и
дает в руку сверток, подводит через узкую каменную лестницу к маленькой
двери и, открыв ее, показывает
мне широким жестом руки, что я свободен. В дверной проем врывается поток
света и высвечивает белую голову старика. Я подхожу к двери и улыбаюсь
старику. Лицо старика словно каменное. Я выхожу на свет. Все видимое
пространство ограничено с одной стороны буйной светящейся изумрудно-влажной
растительностью, с
другой стороны высокой
каменной стеной, у которой пляшет на привязи высокий стройный
оседланный вороной конь. Я набрасываю на себя белые одежды и
поворачиваюсь к старику, но дверь уже закрыта. Подхожу к коню и вскакиваю в
седло. Конь заржал и встал на дыбы. Старик вернулся под каменные своды.
Постоял около двери и подошел к кувшину. Из тазика стал наливать в него
огненно-красную жидкость. Налил, подошел к стене и повернул в ней большое
железное кольцо. Стена раздвинулась и открыла ступени лестницы. По ним к
старику спустились голые женские ноги. Старик взял кувшин и протянул
обнаженной девушке, которая стояла перед ним с подносом и пустым
кувшином. Она отдала старику пустой сосуд и взяла на поднос наполненный. Ее
ноги опять исчезли на ступеньках каменной лестницы, стена сомкнулась. Старик
опустился и присел около стены,
взял в руки голову лани. В глаза старика светлые и влажные смотрели темные
остывшие глаза животного.
Владыка сидел на троне все еще
неодетый. Но уже чистый. Женщина в красных одеждах уносила таз с
грязно-красной жидкостью.
Вошла женщина в белых одеждах и
положила перед владыкой чистую белую
одежду. Владыка сидел с закрытыми глазами. Женщина распростерлась у его ног.
Он резко встал и поднял вверх руки.
- Одеть меня!
Его глаза горели и светились. Глаза
женщины смотрели на владыку.
Глаза лани смотрели на старика. Глаза
моего коня смотрели прямо на меня.
Он прощался со мной. Я похлопал коня
по шее и отпустил. Он встал на дыбы и ускакал.
Я недолго смотрел,
как он удаляется.
Отвернулся и пошел пешком.

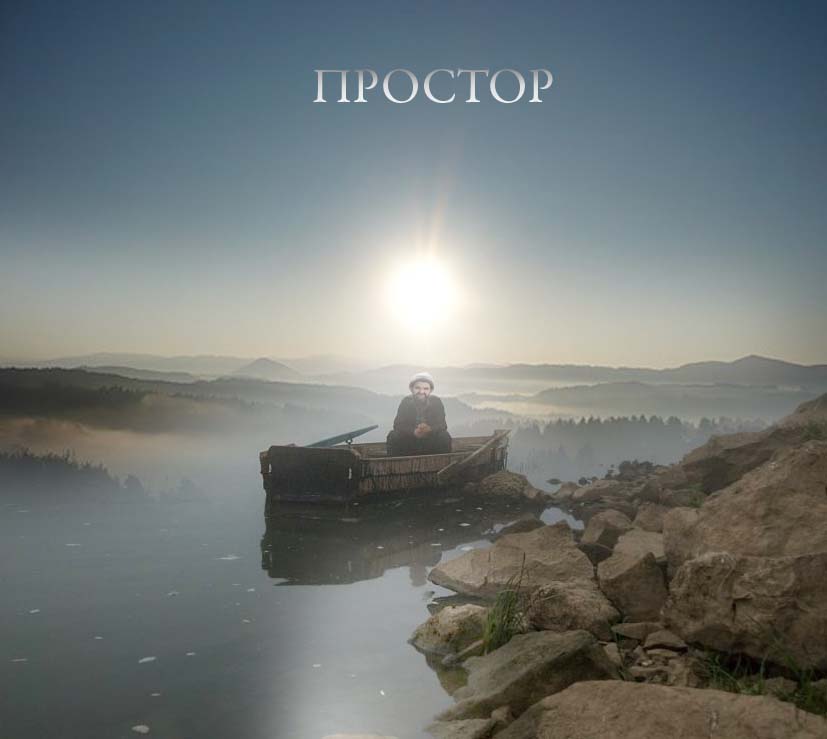
Меня окружала буйная девственная
растительность сплошь зеленая и сочная. воздух был наполнен самыми
разнообразными запахами и звуками. От резких и высоких до тихих и низких,
продолжительных, как шум. Пространство вокруг меня начиналось и кончалось
этими звуками. Все было
заполнено ними. Я вышел к берегу речки, привлеченный и направленный ее шумом
и гомоном звонкой воды. Сразу после зарослей начинался желтый чистый песок,
0 берег плавно терлась маленькая очень прозрачная волна голубоватой воды.
Берег делал крутой поворот как раз в том месте, где я вышел, и в воду
врезалась полукруглая желтая песчаная коса. Противоположный берег терялся в
голубоватой дали.
Прямо
на середине косы сидел, качаясь в прикрепленной к берегу лодочке, старичок.
Сидел он в лодке спокойно и попыхивал трубочкой.
Табачный дымок колечками отлетал от
старичка и таял в воздухе.
Взгляд старичка был направлен на самый
кончик лодки и был недвижим. Когда я подошел к нему вплотную, преодолев
желтый хрустящий под ногами песок, тот абсолютно не прореагировал на мое
появление. Ничто не отразилось на его задумчиво-равнодушном загорелом лице.
- Папаша, на тот берег не перевезешь?
- Бери билет,
- А у меня проездной.
- Покажи чего это такое.
- Вот смотри...
Старичок взял из моей руки красную
книжечку и поднес к глазам. Посмотрел, перевернул, понюхал.
- Ну, разве только проездной... Но все
равно за обратный путь заплатишь...
- Дед...
Он отложил свою трубочку, взял со дна
лодки весло и оттолкнулся от берега. Я сидел напротив и смотрел на него.
Старичок сосредоточенно и привычно снова и снова опускал в воду свое весло.
Голубая вода была прозрачна, но ничего
не открывала в своей толще.
Как стекло была вода. Лишь за лодкой
плелся след из пузырьков и завитков воды. Вода капала звонко с весла, когда
старичок поднимал его над водою, чтобы сделать очередной гребок. И мягко
опускал в тягучую голубую воду, отталкиваясь от нее.
Мы плыли.
- А сколько ж тебе, дед, годов?
- Первый раз плывешь со мной?
- На вид лет сто уж тебе...
- Да и я тебя не припоминаю.
- А ты еще ничего, вполне...
- Первый значит, ну ничего, доедем.
Скоро лодка уперлась в берег, слегка
качнув нас. Нос ее выполз на песок и лодка замерла.
Старичок положил на дно лодки весло и
достал трубку, которая сразу задымилась у него в руках и снова ароматные
кольца дыма легкими облачками поднимались над дедом.
Берег представлял из себя все желтое,
но не это был не песок, а что-то твердое, каменисто-глиняное. Голая пустыня
раскинулась передо мной до самого предела. Я сделал несколько шагов от лодки
и остановился - передо мной на этой каменисто-глиняной пустыне выросли
грибки взрывов, и потом с запозданием раздался их звук. А потом много-много
взрывов и их звук. Взрывы поднимали в воздух тучи желтой пыли и песка. Небо
над пустыней стало темно-пыльно-желтым, Я обернулся к старичку - там над ним
небо было по-прежнему голубым как и вода в речке. Он сидел и дымил своей
трубочкой, я сделал пять шагов к нему, столько я прошел по пустыне.
- Что это?
- Война это.
- Кого с кем?
- Не наши какие-то дерутся... Одни
желтые, что песок и маленькие, другие тоже не наши, звук «р» не умеют
говорить.
- А что им надо?..
- Землю не поделили,..
- Эту что ль?
- Эге...
- И что давно дерутся?
- Сколь себя помню - все воюют.
- А толку?
- Вот и я говорю, а толку....
- Неужто они не могут понять, что мир
лучше?
- Вот и я говорю, мир лучше...
- Эй вы, там, мир лучше! А ну вместе,
дед! Эй, мир лучше!
Тучи пыли и песка над желто-каменистой
пустыней исчезли, взрывы прекратились. Стало тихо.
- Вот видишь, они просто не знали что
мир лучше войны...
- Эге...
Старичок не шелохнулся. Его трубочка
по-прежнему испускала очень симпатичные облака голубоватого дымка, который
поднимался и таял в воздухе.
Я сел к нему в лодку, и мы опять
поплыли. Дед медленно греб и попыхивал своей трубочкой. Я удобно откинулся
назад и стал смотреть на небо.


Голая каменистая
поверхность земли лежала передо мной.
Неожиданно совсем близко, словно из
марева расплавленного воздуха, возник человек, который шел мне навстречу.
Когда он подошел поближе, мне удалось рассмотреть его. Это был юноша. Он
оказался строен и высок, немного худ. Волосы у него были очень длинные и
растрепанные. Одежда состояла из старых затасканных вытертых до белизны
джинсов, столь же старой выгоревшей
рубашки неопределенного цвета и кожаных армейских сандалий на босу
ногу. Рукава и штанины его одежды от поношенности весело бахромились. Юноша
остановился напротив меня и, так же как я его, принялся
рассматривать меня. У него было забавное, трогательно-юное очень
выразительное бледное лицо. Огромные серые глаза смотрели открыто, чисто и
немного грустно. Мы смотрели друг на друга. Он подошел поближе.
- Ты кто?
- А ты кто?
- Ты куда?
- А ты куда?
Парень стоял, обхватив руками плечи, и
улыбался. Диалог себя исчерпал. Помолчали.
- Ну, тогда, я пошел ...
И он прошел мимо меня, совсем
рядом со мной и стал удаляться в ту сторону, откуда
пришел недавно я. Шел он, раскачиваясь своей интересной походкой с
оживающей при каждом шаге бахромой штанин. Он удалялся.
- Я тоже пошел.
И сколько б ты не бичевал себя за то,
что не такой, как хочешь быть, как мог бы быть,
И не валил на всех безвинных вину за
это,
Ты в непрестанном поединке лишь с
собственной дорогой,
Которая имеет и начало и конец.
Не может быть спокойною душа,
Когда…
Пекло…
Не пЕкло, а пеклО…
ПеклО, и у меня почти не было тени.
Солнце замерло, зависло в
зените. Я шел и ничего не видел перед собой. Марево раскаленного воздуха
было плотным, словно расплавленное стекло. Горизонт искажался,
трансформировался, распадался на части. Вдруг из-под одного из осколков
прямо передо мной всплыл миниатюрный оазис. Озерцо в низинке меж холмами и
вокруг зеленые широколистые деревья.
Под деревьями в тени угадывалась свежая трава. На берегу озерка у
самой воды под раскидистой пальмой сидел прислонившись к ней спиной негр. Он
был неподвижен. Руки и ноги его
были скованы цепями. Когда я приблизился к нему и остановился, он открыл
глаза. На меня изучающее-пристально смотрели два восхитительно белых глаза.
Осмотрев и оценив меня, чернокожий человек
легко снял свои цепи и бросил
их под пальму, где они бесследно исчезли, словно растворились, как
будто их никогда и не было. Негр широко улыбнулся, ослепив меня своей
здоровой белозубостью, после чего достал откуда-то из-под себя огромный
спелый ананас и протянул мне. Я стоял и смотрел на него. Мне хотелось пить,
а вовсе не ананаса. Негр продолжал улыбаться и убрал ананас, предложил мне
большой кокос с великолепным содержимым, сам вид которого помогал утолять
жажду. Я взял плод двумя руками за шершавую твердую оболочку и стал пить.
Стало приятно и прохладно, негр сидел и улыбался. Я отдал ему пустой кокос,
тот встал и повел меня к себе в хижину. В ней была негритянка и два
маленьких негритенка. Она была увешана всяческими пестрыми
побрякушками. Малолетние негритята были весёлые и резвые. Они
копошились около хижины и были довольны, жуя бананы.
Я перешел еще один холм и впереди
увидел что-то похожее на карликовый лес.

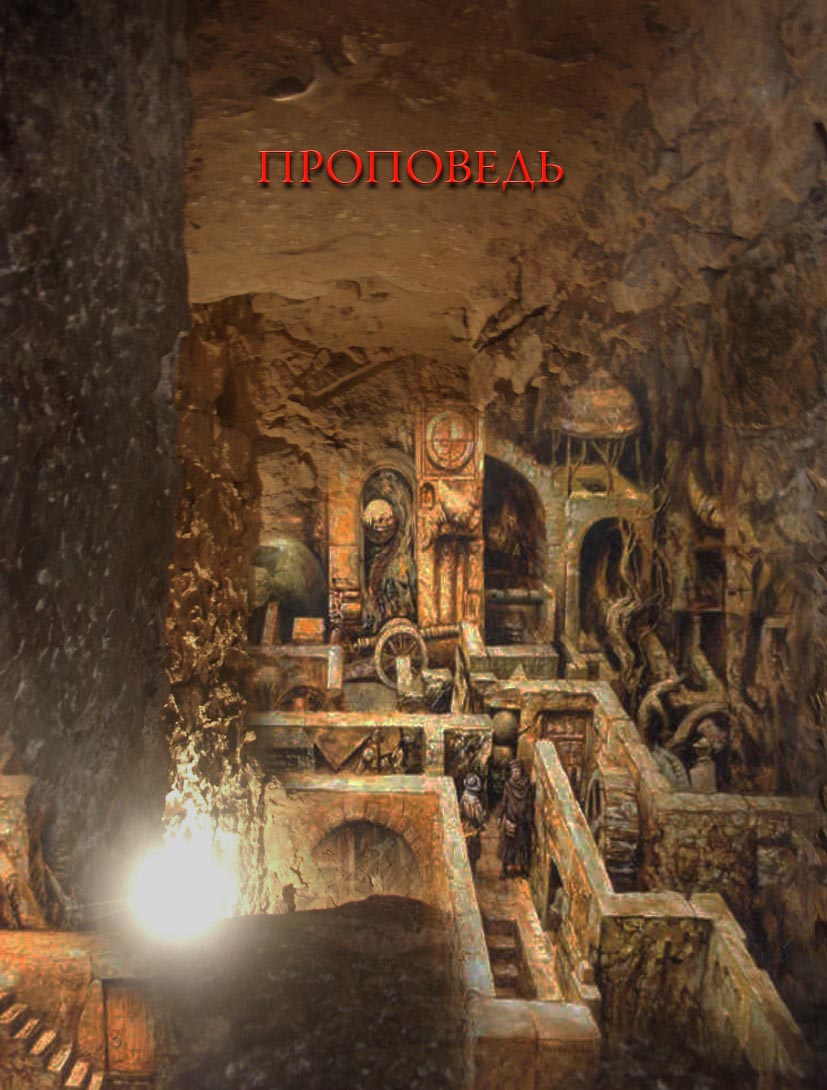
Когда я входил в заросли редкостоящих,
но очень больших и высоких хвойных деревьев, слух мой уловил странные
неприятные звуки. Они доносились не очень четко и с перерывами откуда-то из
глубины леса и сверху. Медленно покачиваясь над моей головой, великаны
отступали назад предоставляя мне идти дальше по все сгущающемуся лесу. Те
звуки, что привлекли мое внимание, не прекращались, лишь перерывы между ними
казалось стали более продолжительными. Теперь звучали они несколько
отчетливее, яснее, но разобрать что же это были за звуки, кто их издавал и
откуда они доносились, все равно было
невозможно.
Я продолжал идти, хотя стертые ступни
ног горели и саднили. Неожиданно, после затянувшейся паузы в воздухе между
деревьев пронесся вопль. Да это был именно вопль, похожий на тот самый звук,
что я услышал входя в лес, но
теперь ясный и четкий, раздавшийся совсем рядом и заставивший; меня
вздрогнуть и остановиться. Когда он через некоторое время повторился, и я
смог точно определить направление, я побежал влекомый интересом и тревожным
предчувствием, что кто-то нуждается в помощи и что единственный спаситель
может опоздать. За время моего бега звук повторился только один раз и то
значительно тише и совсем иначе. Я подбежал к сплошной чаще стволов. Они так
перемежались с высоким и колючим кустарником, что не было никакой
возможности пробраться сквозь него. Живой плотной стеной стояли передо мной
заросли. И лишь в вышине над головою можно было рассмотреть крошечные
просветы, когда в поисках выхода я поднимал голову вверх. Звуки
прекратились. Напрасно я старался прислушиваться и останавливался, затаив
дыхание. Было тихо, за исключением может быть только отдаленного рокота
похожего на затихающие раскаты грома. Шаги мои по старым
веткам, что опали давно и успели превратиться в голые, распадающиеся
на мелкие кусочки сучья, раздавались словно выстрелы в тишине. Хруст
ломающихся под ногами веток заполнял собой все и в нем можно было расслышать
шелест стрекочущих крыльев,
топот копыт, удары бича. Я продирался меж стволов, раздвигая руками
сплетающиеся лианы. Но скоро уперся в настоящую стену - на самом деле это
была сооруженная кем-то не без хитроумности, с коварным умыслом стена,
потому как вершины целого ряда плотно пригнанных один к другому стволов
деревьев были ровненько и аккуратно сняты, спилены. Я пошел вдоль стены,
пытаясь найти малейший просвет или дверь, чтобы узнать что скрывает, от чего
заслоняет эта преграда. Пройдя несколько шагов, я обнаружил между неплотно
пригнанными стволами брешь, через которую можно было смотреть. И я припал к
щели. Взгляду моему открылось нечто
неожиданное. Передо мной лежал совершенно чистый участок земли,
покрытый мелкими камешками, по средине этого участка стоял
щит сколоченный из свежих досок, рядом с ним были подставки, лавочки
и блестящие предметы неопределенного свойства.
К щиту вела тропинка от деревянного строения и упиралась в дверь с
буквой "Р". Ответвление от тропинки вело к другому строению, которое
располагалось непосредственно напротив меня в самой отдаленной части
участка. По всей видимости, это было
самое главное здесь строение. Оно поменьше и
аккуратнее других, и перед дверью имелось две ступеньки. А сама
дверь была тяжелой массивной, с ярко
блестящей металлической ручкой. Но
было ощущение безжизненности во всем что было на этом участке, и в чистоте
земли и нетронутости дорожек, и в этом странном блеске металлических
предметов непонятного назначения и в непростой дверной ручке, и даже в
нарисованной красной краской букве «Р». Тишина, повисшая над этим нереальным
пространством, дополняла ощущение странности и темной таинственности. Я
отстранился от щели. С трудом
пробираясь сквозь стоящие плотно деревья, я прошел сто шагов вдоль стены и
не удивился, когда пришел опять к моему наблюдательному пункту. Чтобы
удостовериться, что это та же щель, я снова заглянул в нее – там было все то
же. Когда я отвернулся и закрыл глаза, то к своему удивлению обнаружил, что
в памяти моей совершенно четко. Словно на фотоснимке,
запечатлелось отсутствие
блестящих предметов. Я приник к отверстию еще раз и точно заметил
произошедшие изменения: предметов на скамеечках не было, да и самих
скамеечек не стало. Оставался щит и чистые дорожки с маленькими камешками.
Упираясь босыми ногами в ствол стоящего рядом дерева и в стену, я стал
взбираться вверх. После нескольких, весьма болезненных усилий, мне удалось
взобраться на стену. Оттуда я все содержание двора увидел в новом свете и
заметил, что на этот раз исчез щит с самой середины двора, остался только
след от его пребывания там и темные пятна около того места. По торцу стены я
стал пробираться отгибая мешающие ветви к ближайшей крыше строения с буквой
"Р" на двери, чтобы спрыгнуть на нее. Удачно преодолев все препятствия, я
добрался до крыши и спрыгнул на нее. Она ответила на это тихим и приятным
скрипом. Но это оказался скрип не крыши, а двери, которая открылась
одновременно с моим прыжком. Я видел сверху распахнувшуюся дверь и застыл в
ожидании. В том месте где она открылась показались две параллельные палки, и
встали напротив меня. Это была лестница, я подошел к краю крыши и взялся
руками за концы лестницы, она стояла прочно, я спустился по ней. Никого не
было, дверь была открыта, я вошел внутрь. Передо мной был маленький
коридорчик в глубине которого была еще одна дверь и светлые стены
с маленькими дверцами на
уровне моих глаз. Я медленно шел. Сзади раздался точно такой же скрип
короткий и резкий - дверь закрылась. Я резко обернулся, но в коридоре никого
не было, только одна из стенных маленьких дверок распахнулась сама собой.
Тут я похолодел от страха, - там за дверцей стояло тело человека с
разрезанной грудиной и
выведенными наружу всеми внутренностями. Органы были тщательно
разложены на специальном демонстрационном
щитке. Верхняя часть туловища, где
угадывалась голова, была прикрыта
темной материей с металлической биркой. Я отвернулся и пошел дальше.
Вдруг справа еще одна дверка распахнулась открыв мне огромную голову
реликтового животного с открытой
пастью усеянной белыми огромными зубами и широко раскрытыми глазищами,
которые смотрели прямо на меня и казалось, что приближались ко мне. Но я
продолжил свое движение и после этого представления. Что меня влекло все
дальше и дальше я не знал. Казалось, что и дышать я перестал от страха, что
и внутренности мои, как у того в шкафчике, были вынесены наружу,
на лютый мороз, потому что все они сжались и съёжились так, что я не
ощущал их; лишь сердце мое продолжало работать и после того как почти
остановилось оно при столкновении с первой дверцей, продолжало быть
полностью спокойным и ритмичным. Но этот его ритм гулкими ударами отдавался
в моей голове. Шаг я успевал сделать за четыре такие удара. Маленький
коридорчик, который я все никак не мог пройти, казался мне очень длинным, и
дверь сколько я ни шел, оставалась вдали
от меня. Но ноги меня автоматически приближали к ней, и она вырисовывалась
все яснее и яснее. Это была простая с виду дверь, однако даже при беглом
осмотре я успел заметить в ней отсутствие каких бы то ни было швов или
соединений. Она казалась монолитной и была без ручки. Я подошел к двери
вплотную и ощутил ее холод на своей щеке. Немного отступив назад, я обеими
руками толкнул дверь - она не подалась. Так, будто
я толкал отвесный каменный склон горы. Когда пальцы мои коснулись
едва заметного выступа в верхнем углу, за дверью раздался звонок, и потом
отчетливо послышались быстрые
шаги. Они приближались. Лязгнула
металлическая задвижка, и дверь вполне обыденно раскрылась. В проеме
открывшейся двери появился совершенно домашний мужчина.
Он был в белой рубашке и в очках. Я молча стоял и смотрел на него.
Посмотрев на меня сквозь очки, он улыбнулся и приятным голосом проговорил:
- Заходи и поскорей, а то сквозит.
Я переступил порог за хозяином, и
дверь за мной закрылась бесшумно.
Человек вошел быстрыми шагами в
комнату и немедленно направился к столу, от которого вероятно я и оторвал
его. Стол был завален бумагами и заставлен всевозможными мелкими предметами
вроде ламп, замысловатых пресс-папье, ножей для разрезания конвертов, линеек
и глобусов. Человек в белой рубашке принялся заниматься своими делами и
предоставил мне возможность рассмотреть и его самого и
помещение. Во всю стену, возле которой стоял стол, высились книжные
шкафы и стеллажи уставленные книгами. На ковре вокруг стола и под креслами
валялось великое множество папок, разнообразнейших чертежей, стенограмм,
эскизов или зарисовок. Сам стол был монументален, велик и громоздок на
четырех толстых ногах: он, казалось прогибался под тяжестью всего того, что
на нем помещалось, находилось, лежало, стояло. Были среди прочего там и
штативы со склянками всякими и приборы с трубками и без, книги - тетради,
запасные части, кости, сосуды с жидкостями и другая разнообразная мелочь.
Живописная в общем получалась свалка. Вся
комната была довольно низкая, но
казалась просторной, несмотря на то что в ней был полный беспорядок,
это от того вероятно, что стены были светлыми и почти пустыми кроме
стеллажей с книгами на противоположной стене был еще маленький портрет в
блестящей раме и под стеклом. Кроме стола были ящики один на другом и
коробки справа от двери. Хозяин на меня внимания не обращал. Словно меня и
не было. Он как ни в чем ни бывало занимался своими делами, согнувшись над
столом что -то с усилием писал и соображал, морща лоб при этом. Изредка
смотрел на показания замысловатых приборов и записывал, зарисовывал,
вычерчивал.
Был он очень забавен. Не высок, не
низок, не стар, но и не молод, не то чтобы толст, но и не худ вовсе, не
брюнет и не блондин, весь он был неопределенным и от того понятным и
простым.
Он написал еще несколько строк и
отбросил ручку.
- Ну ладно, пока. Все уже посмотрел?
Нет? Ну ничего. Сейчас ты поешь и пойдешь спать, а потом, когда ты отдохнешь
и выспишься, мы с тобой обо всем
поговорим.
Можете представить, что я о нем
подумал, если вот так, не зная
меня, впервые видя да еще при
таких обстоятельствах, он так миролюбиво по-родственному со мной
разговаривал. Словно милый
сердцу племянник после долгих уговоров приехал в гости к любящему дядюшке.
Пока я соображал, что такое мне тут говорят про сон и отдых, он
открыл дверь, но не ту до которой я добирался с такими страхами, а
маленькую, незаметную, в глубине комнаты. И пригласительным жестом показал
внутрь. Я прошел мимо него в эту
дверку и оказался в другой комнате, значительно меньше той где был стол. И
освещена эта была приятным голубым светом, здесь была только большая кровать
с блестящими шариками и маленький столик, на котором стояли кушанья в
маленьких и аккуратных продолговатых тарелочках. Дверь за мною бесшумно
закрылась. Я был' один в комнате. Сел на кровать, она мягко подо мною
прогнулась и скрипнула, приглашая лечь. Стены в комнате были
голубыми и от того казалось что это маленькое помещение просторно и
чисто. Стены были пустыми, но и здесь висел такой же маленький портретик в
блестящем ободке. Я провел глазами по всем углам комнаты, и взгляд мой
пришел к столику с едой. Тут же организм мой вспомнил, что давно ничего не
ел, в животе заурчало, потекли слюнки.
Тщательно вымыв руки и утеревшись
душистым мягким полотенцем, я сел к столу и принялся за еду. Мягкий
свежий хлеб, сыр, оливки, ветчина, апельсиновый сок. Я не мог удержаться,
было очень вкусно, и пока не съел всего стоявшего передо мной на
столике, жевал не останавливаясь. Прямо из кувшина я запил трапезу розовой
жидкостью с кусочками льда и в совершенном блаженстве и расслаблении лег на
кушетку. Глаза сами тут же закрылись.
Но только веки мои сомкнулись,
за стеной раздался
знакомый вопль. Через
некоторое время он повторился. Мороз пробежал по спине. Я встал и подошел к
двери. Она легко поддалась мне, как только я нажал на выступ в верхнем
правом углу. Миновав знакомую комнату-кабинет, я вышел в коридорчик.
Вопль повторился. Стало очевидно, что
доносился он со двора, с
той стороны, где располагалось то маленькое чистенькое сооруженьице.
Преодолев коридор, я распахнул дверь с буквой "Р" и оказался
во дворе на воздухе. Сразу бросилось в глаза то, что опять посредине
двора стоял щит и две скамеечки возле него с лежащими на них блестящими
предметами. Но хозяина самого не было. Я подошел к двери маленького домика с
блестящей ручкой и прислушался. Сначала все было тихо, но скоро еще громче,
нежели прежде, раздался страшный вопль, от которого меня передернуло. Звук
доносился непосредственно из-за перегородки двери. Уверенно, решительно
взявшись за ручку, я потянул на
себя, распахнул дверь и вошел внутрь. Передо мной был такой же коридорчик,
что и в другом доме, только в конце его было две одинаковых двери. Я подошел
к правой и нажал на знакомое уже устройство в правом верхнем углу. Дверь
медленно открылась. За нею внутри помещения было темно и тихо, только мокрое
шлепанье доносилось оттуда. Я закрыл дверь, не решаясь войти и подошел к
левой двери. Открыв ее, я увидел моего знакомого в белом халате и с
блестящим предметом в руках. Комната представляла собой округлое во всех
измерениях кроме пола сооружение со столом посередине и маленькой дверкой в
правой стене. Стол был прочный, блестящий. На нем лежало что-то большое и
красное. Не оборачиваясь ко мне, хозяин произнес таким голосом, словно
недавно отсылал меня куда-то и я непозволительно задержался, тем самым не
выполнив его поручения:
- А вот и ты. Стой пока тихо и смотри.
Он склонился над тем красным, что
лежало на столе, и стал что-то там делать
блестящим предметом. Из-под рук его вырвался страшный вопль, но как
ни в чем ни бывало тот продолжал работать. Потом раздались еще звуки, но
тихие и неопределенные, вроде
сопения. Мой знакомый незнакомец распрямился, аккуратно и привычно положил
предмет на подставочку рядом со столом, Отступил на шаг и пригласил меня
жестом приблизиться к сверкающему столу.
Я подошел и взглянул на стол. Там лежало прикрытое былыми материями
изуродованное человеческое тело со странно меленькой волосатой головой.
Голова крепилась к шее при помощи блестящих маленьких скобочек, которые
стягивали волосатую кожу и местами ровные стежки швов, наложенных искусной
рукою.
- Нравится?
Я кивнул, не поняв сути вопроса.
- Ты совершенно напрасно открывал
вторую дверь. Могло случиться так, что ты там бы и остался.
Да. Считай, что тебе повезло, и потому ты многое узнаешь сегодня. Ну,
хватит смотреть, это не самое интересное, пошли.
И я
подчинился.
Хозяин открыл в коридоре вторую дверь
и спокойно вошел внутрь. Звуки
доносились точно такие же, как и при моем первом вторжении – хлюпанье и
шлепанье. Через мгновенье темнота исчезла, помещение
залилось ровным зеленым
светом. По
чистому влажному полу большого в
сравнении с предыдущей комнатой помещения передвигалось множество живых
существ. Они все были мокрые. Разные. Маленькие плоские и большие длинные
многоногие. Месиво тел. Было видно, что хлюпающие организмы не пересекают
некой невидимой черты на полу. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что
это не черта, а тонкая и очень прочная прозрачная пластинка, которая служила
решеткой и не выпускала обитателей из комнаты. Хозяин прошел вдоль
ограждения до противоположной стены и пригласил меня последовать за ним.
Я послушно пошел к нему мимо ползающих и лежащих животных. Мы перешли
в другое помещение, и оказались в комнате с кроватями. На них лежали
несколько человек. При нашем появлении все встали. Их было пятеро. У одного
голова с обвисшими губами на тоненькой шейке. Вдавленный череп с дыркою
вместо носа. Рядом с трехногим карликом гигант с лохматыми плечами и
волосатыми руками до колен. Заплывшее салом пузо с глазами. Беспалые
конечности. Беззубый гуттаперчевый рот.
Все они были так изощренно уродливы, что делалось не столько страшно,
сколько жалко их. Мой любезный проводник тем временем подошел к каждому из
них и что-то тихо проговаривая, бегло ощупал каждого. Потом он вернулся ко
мне и показал жестом, что надо выходить. Как только мы вышли, за дверью
послышалось металлические скрипение и странное
урчание. Мы вышли на двор. Щита не было там, не было и скамеечек с
блестящими предметами. Потом мы
сидели в той комнатке, где я недавно чревоугодничал, и мирно беседовали.
Я разместился
на кушетке и следил за моим хозяином, который
говорил, прохаживаясь передо мной по комнате.
- Цитировать его можно долго, да и
тема эта неисчерпаема. Оставим пока этот вопрос. Скажи мне лучше, что ты
думаешь по поводу того, что я тебе показал сегодня. Поделись впечатлениями
от увиденного.
- Мне трудно сразу определенно что-то
сказать...
- А никто и не обещал тебе, что будет
легко.
- Столько ярких впечатлений сразу.
- Это расплывчато и не конкретно.
- Запомнить конкретно мне почти ничего
не удалось.
- Скверно.
- Одно смутное страшное ощущение
осталось.
- Краска эмоциональной перегрузки.
- И эти крики...
- Не более, чем иные акустические
вибрации.
-
А когда я увидел тех пятерых уродов, я подумал даже, что вы над ними
убогими просто издеваетесь.
- Вот как?
- Экспериментируете…
- Да?
- Производите некие вторжения в их
плоть…
- Ого.
- Переделываете людские организмы,
потому как они на ваш взгляд неправильные,
неполноценны, в животных. Вот.
- Продолжай.
Доктор мой смотрел на меня серьезно, а
потом заулыбался.
- Ты второй кто видел мою работу, а говоришь примерно то же, что и
первый. Вероятно, в этом есть определенная эфемерная предопределенность и
закономерность. Это и должно в
принципе быть так потому, что это только начало работы, только проба так
сказать пера. Но то, что те существа,
которых ты видел на кроватях, есть именно люди, ты не сомневаешься?
- Уроды?
- Мир вообще не совершенен. И все же –
они на твой взгляд люди?
- То есть, что вы имеете в виду?
- Это неполноценные, как ты выразился,
но тем не менее, все же люди?
- Мне было их жалко.
- Гуманно.
- Они больны. И не виноваты в том.
- Они по-твоему люди и при том люди,
вызывающие жалость, сострадание, сочувствие, - почти торжествующе,
торжественно во всяком случае произнес мой собеседник. И остановился.
-
Да, мне так показалось.
В глазах моего собеседника пробежали
искрами шампанского резвые разноцветные огоньки.
- Спасибо, что тебе так показалось.
- Почему?
- Видишь ли, если не вдаваться в
подробности, то ты воспринял все как раз с точностью до наоборот.
- То есть?
- И удивляться этому не приходится.
- Как?
- Ты же вполне нормальный прямоходящий
сапиенс, не так ли?
- Вы это о чем?
- И воспринять сразу процессы,
явления, факты противоречащие устоявшимся стереотипам, разрушающие
тривиальные представления о мироустройстве, тебе непросто.
- О мироустройстве?
- Не меньше. Почему с точностью до
наоборот? Экая гуманная привиделась тебе фабула – из сострадания к убогим
людям некий живодер превращает их в довольных жизнью сытых животных без
явных признаков уродства! Милосердие весьма странного, если не сказать
сомнительного свойства.
- Вы о чем?
- О твоих впечатлениях от увиденного.
- И что же? Я не прав?
- Прав. Абсолютно. Но отчасти. С
точностью до наоборот. Потому, что я как раз создаю людей из того животного
биоматериала, который беру в лаборатории природы.
- Что-что?
- Из того скотского безмозглого
зверья, что ты видел в загоне, я
мастерю людей...
Тут, разумеется, повисла пауза.
- Да, да, не смотри на меня так, будто
я оправдываюсь. Это так. Когда я
был значительно моложе, я занимался тем, что... Впрочем, так я
вдаюсь в излишние подробности.
Короче, я заметил, что отличий от них
у нас настолько мало, что мне показалось возможным искусственно делать то,
чего не делает природа. Наделять мощное и здоровое тело животного
высшей нервной и развитыми
полушариями. То, что получалось поначалу и вспомнить сейчас страшно. Да.
Много было работы. Результаты порою превосходили самые смелые
прогнозы, хотя и в
неожиданностях тоже недостатка не было. А вот теперь ты сам увидел и,
не колеблясь, признал их людьми. Божьими созданиями. Не так ли?
- Да.
- Вот.
- Что?
- Да, только это
мои дети...
- Какие дети?
- Мои создания. Это я их сделал. То
есть не в том смысле, что намеренно сделал именно такими внешне, а вообще
сотворил, создал, слепил. Из здоровых и сильных организмов, тел, форм,
начинив их нервной системой и дав возможность расти клеткам мозга во много
раз быстрее. С речевым аппаратом хуже чем с функциональным, но все же
пригодным для трансформаций и мутаций.
Один экземпляр вполне членораздельно начинает выражать свои эмоции.
Скоро сможет и заговорить.
- А зачем это все? Такие зачем они?
- Понимаешь ли, человек имеет свою
историю. Не станем оценивать ее – она такая, какая есть. И путь становления
человека разумного - это цепочка
наследования свойств и качеств, передаваемых от генерации к генерации.
Индивидуум может и не подозревать о том, какой груз свойств своих предков
несет он в своем наследственном аппарате. В каждом человеке большая часть
комплекса его свойств
наследственна. Это наше бремя. А мои дети – чистые страницы – они этого
груза лишены, они полностью освобождены от помех и преград в чувствовании и
мышлении. За счет отсутствия массы ненужного и громоздкого, что в обычных
случаях по коду крови и нейронов передается родителями, у них все
чисто, им не будут знакомы даже те самые острые эмоциональные патологии и
страсти, которые питаются к настоящим родителям типа сострадания,
благодарности, верности или
чего-то подобного. У них останется только сила и желание быть сильными, у
них не будет комплекса невозможного, они все будут иметь возможность делать
потому, что не будут знать, как все прочие, что этого нельзя.
Дальнейшее развитие их
мыслительного аппарата даст
им возможность быть не только сильными, но и спокойно совершать то,
что сейчас кажется фантастикой, или утопией. Без рудиментов вроде
нравственных терзаний и угрызений совести.
Им в четыре раза будет
легче, чем другим людям. Вот представь…
-
Насколько я понял,
вы говорите, что главное в них - отсутствие комплекса наследственной
греховности?
- Совершенно верно, и как результат -
удвоенная энергия, перспективы и
возможности.
- А разве вы не дадите им возможности
размножаться?
- Что?
- Ну, неужели вы только муж... самцов
и будете делать? В конце концов ведь живая природа, она всегда природа и
возьмет своё.
- Наивный. Я сам смогу сколько угодно
материала перерабатывать и задавать популяции наиболее рациональные свойства
без необходимости естественного размножения. По категориям и согласуясь с
целями.
- А категория женщин предусмотрена?
Они же в природе тоже зачем-то нужны?
- То, что ты сказал в каком-то смысле
верно... Я тоже честно
попытался как-то сделать подобное. По
инерции что ли… Но выяснилось, что не все так просто: второй пол не очень
расположен подвергаться
подобному усовершенствованию. Что-то там на
молекулярном генном уровне заложено такое, что не дает диктовать
условия… Вот посмотри на этот
шрам - это результат одного опыта,
после которого я перестал заниматься самками. Это вообще другие существа, у
них все по-другому… Область их природной сопротивляемости
мало изучена и слишком сильно
отличается от мужской. Она мне пока
неподвластна и оттого я не....
Тут он сник,
замялся, стал быстрее ходить и потирать руки.
- Ну, ты тут сиди, а я попозже приду,
мы еще поговорим.
И он вышел быстрым шагом, бесшумно
закрыв за собой дверь.
Я продолжал
сидеть в полном смятении. Из-за стены снова раздался вопль. Не
выдержав, я вышел на двор. Там перед щитом, на котором распято было тело с
разрезанной грудью, стоял мой хозяин и выбирал на скамеечке предмет
блестящий. Тело было прикреплено и не могло шевелиться. Из разреза на мелкие
камешки капала кровь. Это было какое-то странное животное с маленькой
головой без ушей и с забинтованной передней частью головы, руки, вернее
передние конечности, тоже были забинтованы и разведены по сторонам. Доктор
выпрямился и приблизился к телу. Снова послышался вопль. Но доктор продолжал
что-то делать во внутренностях. Тело передёргивалось от прикосновений
блестящего предмета. Еще раз раздался страшный вопль. Тело стало метаться в
закреплениях и из разреза хлынула кровь. Доктор же спокойно продолжал
свои манипуляции. Как только он опять приблизил свой блестящий
инструмент к ране, тело сжалось и вместе с воплем задергалось со страшной
силой. Казалось не выдержать уж креплениям. Кровь заливала землю, делая ее
темной и влажной. Мой хозяин бросил на скамеечку свое орудие и отошел от
тела. Щит и скамеечки опустились
в открывшийся под ними люк. Я
ушел опять в голубую комнату и
сел на кровать, стал ждать. Но доктор не появлялся. Через некоторое время
доносившиеся из-за стены страшные
вопли слились в один
все заполняющий звук. Я
закрыл глаза и уши, но вой
терзал меня. В темноте я бросился прочь от этого протяжного и
выворачивающего душу вопля. Постепенно он стал стихать и скоро слился с
новым посторонним звуком, не то шумом, не то плеском…


Я открыл глаза. Передо мною был лес.
Точнее,
это я был в лесу. Я
продолжал идти. Неожиданно под деревом я заметил сидящего человека. Он
находился в позе, которая свидетельствовала об усталости или отсутствии
желания что-то делать и куда-то идти. Ноги его были протянуты, голова
откинута на ствол дерева и глаза закрыты. По бахроме штанин старых джинсов я
определил, что это молодой парень, так как волосы его были длинны и спадали
до плеч. Подойдя ближе и опустившись на колени, я в чертах лица сидящего
рассмотрел того самого парня, что был встречен мной так неожиданно совсем
недавно. Только что-то в нем неуловимо изменилось. Он открыл глаза, и так,
будто мы и не прерывали нашей беседы, спокойно проговорил:
- Привет.
- Привет.
- А ты пришел все-таки.
- Пришел, как видишь...
- И дальше пойдешь?
- Пойду...
- Иди, иди...
Говорил он с большими паузами, тихо
и равнодушно. После
приветствия
он опять закрыл глаза. После последней
фразы надолго замолчал. Мне казалось, что он хочет еще что-то мне сказать
или спросить о чем-то, поэтому я терпеливо ждал. Дыхание молодого человека
было ровным и спокойным. Он спал глубоко и безмятежно.
- Ну, тогда я пойду.
- Иди, иди.
- Привет.
- Шагай.
Я отвернулся и пошел. Скоро я за
спиной услышал хохот. Смех звонкий и громкий летел мне в спину. Я обернулся.
Парень в джинсах лежал в той же позе и с закрытыми глазами, тело его
содрогалось от смеха, рот его смеялся, а глаза были закрыты.
Мне в спину летел смех. Я уходил. Смех становился все тише и тише, но
не прекращался до тех пор, пока его просто не унесло ветром.
Я не успел заметить куда я бежал.
Когда остановился, то никакой растительности вокруг не было. Передо мной
высилась громадная стена сложенная из крупных скал. Я обернулся и увидел,
что и сзади точно такая же стена. По сторонам тоже самое. Как я мог сюда
попасть - неизвестно, но я
находился в гигантском каменном мешке. Стало быстро темнеть и только я
оставался в луче яркого света. И куда бы я не шагал луч всюду следил за
мной. Я подошел к стене и прислонился к ней.
Луч высвечивал меня на фоне камней. Откуда-то сверху раздался тихий и
спокойный голос:
- Ну вот ты и пришел.
- Привет, - проговорил я. Но не узнал
собственного голоса, он был словно чужой.
Воцарилась тишина. Напряженная.
Из любопытства я через
некоторое время продолжил беседу:
- А ты кто и где ты?
Сначала было тихо, а потом из темноты
послышалось:
- Меня нельзя спрашивать, кто я.
- Это еще почему?
- Ты это сам должен знать.
- Ну ладно, раз ты такой скромный, не
будем о личном. Тогда где ты?
- Везде,- последовало через некоторое
время, но голос был уже не тот самый что вначале, а
другой.
- Это надо понимать так, что ты везде,
где темно?
- Не говори со мной так.
- Это еще почему?
- Я везде и повсюду и во всем.
- И во всех?
- И во всех.
- Ты меня видишь?
После паузы, которую я выжидал,
пытаясь что-то разглядеть вверху в темноте, послышалось снова
иным голосом и как бы сразу отовсюду, не из одного места, как это
привычно, а из всего пространства сразу:
- Я всех вижу
- А вот я тебя не вижу. Не знаю, какой
ты, как выглядишь. Бородат ли, брит ли? Вообще, что ты из себя
представляешь, чем на досуге занимаешься, есть ли хобби?
- Не говори со мной так.
- Нет, но ведь действительно мы с
тобой в неравных условиях. Согласись. Ты в темноте
от меня прячешься, а я весь перед тобой как на ладони. Ты просишь,
чтобы я ни о чем не спрашивал. А
сам все знаешь и все видишь. Это ли право?
- Меня нельзя видеть.
- Что совсем нельзя, и никто и не
видел тебя?
- Меня нельзя видеть.
- Ну а знать какой ты можно?
- Должно.
- И какой же ты, если это даже должно
знать, а я вот не знаю?
Опять наступила пауза, и опять голос
стал несколько иным, но все же похожим на голос, который я слышал.
- На себя посмотри. Я в тебе.
- То есть ты - это я?
- Не говори со мной так.
- И так с тобой нельзя, а как можно? Я
задаю вопрос тебе, а ты не хочешь, или не можешь ответить на него и
говоришь, чтобы я так с тобой не говорил. Как же мне тебя узнавать?
- Себя познавай, я в тебе.
- Ну ладно, ответь тогда, если это
можно, чем ты занимаешься?
Долго было тихо. Голоса слышно не
было.
- Хорошо,- продолжал я, - мне нельзя
спрашивать. Но мне хочется знать, что ты делаешь, чем занимаешься. Я знаю,
есть такие, что веселятся, изобретают что-то, кровь пьют, наконец. Но все по
крайней мере что-то делают. А ты?
- Я не могу пить кровь.
- Тебя никто и не заставляет ее пить.
Не пей, если не хочется, но есть
такое что-то, чего тебе хотелось бы, ведь есть? Должно быть!
- Не говори со мной так.
- Ну, знаешь ли... О добре и зле я с
тобой не говорю, понимаю, что нельзя. Но
на такие вопросы ты должен отвечать... Ты же во всех и во всем... Ты
все знаешь. Ну хоть бы мемуары писал, что ли... Где он, тот самый остров?
Почему ты молчишь?
Он молчал…

*
…ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПУТИ
Вот некоторые обитаемые острова, которые стоит посетить…
Олдос Леонард Хаксли «Остров»
Роберт Музиль «Человек без
свойств»
Габриэль Гарсиа Маркес “Сто лет одиночества”
Уильям Фолкнер “Шум и ярость”
Альбер Камю “Посторонний”
Марсель Пруст “В поисках утраченного времени”
Франц Кафка “Процесс”
Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
Антуан де Сент-Экзюпери “Маленький принц”
Андре Мальро “Условия человеческого существования”
Борис Пастернак «Доктор Живаго»
Луи-Фердинанд Селин “Путешествие на край ночи”
Джон Стейнбек “Гроздья гнева”
Эрнест Хемингуэй “По ком звонит колокол”
Ален-Фурнье “Большой Мольн”
Борис Виан “Пена дней”
Симона де Бовуар “Второй пол”
Сэмюэл Беккет “В ожидании Годо”
Жан-Поль Сартр “Бытие и ничто”
Умберто Эко “Имя розы”
Александр Солженицын “Один день Ивана Денисовича»
Жак Превер “Слова”
Гийом Аполлинер “Алкоголи”
Эрже “Голубой лотос”
Анна Франк “Дневник”
Клод Леви-Строс “Печальные тропики”
Олдос Хаксли “Прекрасный новый мир”
Джордж Оруэлл “1984”
Госсиньи и Удерзо “Астерикс, вождь галлов”
Джон Фаулз «Волхв»
Эжен Ионеско “Лысая певица”
Зигмунд Фрейд “Три эссе о сексуальной теории”
Маргерит Юрсенар “Философский камень”
Владимир Набоков “Лолита”
Джеймс Джойс “Улисс”
Дино Буццати “Татарская пустыня”
Андре Жид “Фальшивомонетчики”
Жан Жионо “Гусар на крыше”
Альбер Коэн “Прекрасная дама”
Франсуа Мориак “Тереза Дескейру”
Раймон Кено “Зази в метро”
Стефан Цвейг “Смятение чувств”
Маргарет Митчелл “Унесенные ветром”
Д. Г. Лоуренс “Любовник леди Чаттерли”
Томас Манн “Волшебная гора”
Франсуаза Саган “Здравствуй, грусть!”
Торнтон Уайдлер «Мост короля Людовика святого»
Веркор “Молчание моря”
Жорж Перек “Жизнь, способ употребления”
Артур Конан Дойл “Собака Баскервилей”
Жорж Бернанос “Под солнцем Сатаны”
Стивен Хокинг «Краткая история времени от большого взрыва до черных дыр»
Фрэнсис Скотт Фицджеральд “Великий Гэтсби”
Милан Кундера “Шутка”
Альберто Моравиа “Презрение”
Агата Кристи “Убийство Роджера Экройда”
Андре Бретон “Надя”
Владимир Орлов «Альтист Данилов»
Карлос Сезар Арана Кастанеда «Колесо времени»
Мишель Уэльбек «Возможность острова»

******
*****
****
***
**
*
.
.
.
.
.